




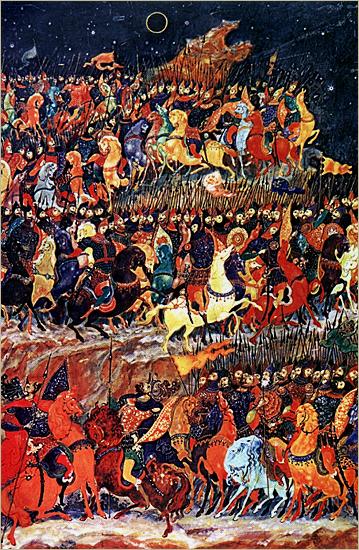





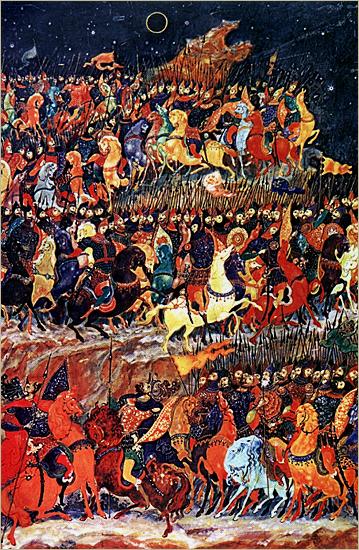
Сатьи о повести "Слово о полку Игореве"
ГЛАВНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ПЕРЕВОДЫ
ИЛЛЮСТРАЦИИ
- Зимин А. А. "Слово о полку Игореве". Вопросы истории, 1992 г., № 6-7.
- Адрианова-Перетц. Основные вопросы поэтики "Слова о полку Игореве". — 1968
- Орлов и др. Слово о полку Игореве. — 1941
- К. В. Кудряшов. Еще раз к вопросу с пути Игоря в Половецкую степь. — 1958
- В. В. Мавродин.Одно замечание по поводу «мыси» или «мысли» в «Слове о полку Игореве»
Вопросы истории, 1992 г., № 6-7.
[103] — конец страницы.
От редакции
| Слово о полку Игореве ... Целый мир образов и красок, высоких помыслов и глубоких чувств, находящих отзвук в сердцах всех тех благодарных читателей, кому дороги героические и поэтические страницы истории нашей отчизны. Сколько гениальных творцов русской культуры и науки обращали свои взоры к торжественно-прекрасной песне о ратных подвигах русских воинов во время трагичной по своим последствиям битве при Каяле в 1185 году. «Слову о полку Игореве» посвятили многие страницы своих творений Пушкин и Гоголь, Шевченко и Франко, Жуковский и Радищев, Белинский и Бородин. Слово о полку Игореве — одно из значительнейших произведений мировой литературы. Его библиография насчитывает много более 1000 названий исследований и переводов, написанных на многих языках Советского Союза и всего мира. Эпические глубины этого бессмертного произведения привлекали к себе внимание многих поколений ученых нашей Родины и других стран. В результате их самоотверженного труда все более и более раскрываются богатство содержания и своеобразие художественной формы героической Песни о походе Игоря. Изучению подвергались источники произведения и влияние на позднейшую литературу, язык и стиль. Памятник вызывал живой интерес как военно-исторический и историко-географический источник. «Слово о полку Игореве» было издано в 1800 г. известным собирателем древних рукописей графом А. И. Мусиным-Пушкиным совместно с видными архивистами Н. Н. Бантышем-Каменским и А. Ф. Малиновским. Единственная известная науке рукопись, содержавшая Слово, исчезла после Отечественной войны 1812 года. Поговаривали, что она погибла в Московском пожаре вместе с другими книгами и рукописными сокровищами ее владельца А. И. Мусина-Пушкина. В настоящее время исследователи располагают только изданием 1800 г., копией и переводом рукописного текста, сделанным для Екатерины II (около 1795—1796 гг.), а также тремя переводами конца XVIII века. Еще до издания Слова о полку Игореве (первые сведения о нем проникли в печать еще в 1792 г.) целый ряд знатоков русской истории и литературы высказывал в той или иной форме свои сомнения в древности Слова о полку Игореве, относя его создание к XV—XVI вв. или даже считая его более поздней подделкой. После загадочного исчезновения рукописи голоса так называемых «скептиков» (Евгений Болховитинов, О. М. Бодянский, М. Т. Каченовский, С. П. Румянцев, К. С. Аксаков, О. И. Сенковский и другие) усилились. Странным казался и язык древней поэмы, в котором находили слова и выражения из [103] современных украинского и польского языков. Непонятно было вообще, о каких еще «старых словесах» мог написать автор Песни XII века. А. И. Мусин-Пушкин уклонялся от освещения истории приобретения рукописи, и только молодому и энергичному исследователю К. Ф. Калайдовичу он сообщил, что рукопись, содержавшая Слово, была куплена его комиссионером у архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля. Калайдовичу также удалось найти среди рукописей Синодальной библиотеки псковский Апостол с припиской 1307 г., которая очень напоминала одно из мест Игоревой песни. Получалось, что уже в начале XIV в. какой-то безвестный писец знал текст Слова о полку Игореве. Позиция ревнителей древности Слова значительно окрепла после того, как в 1852 г. было впервые опубликовано одно из значительных произведений древнерусской литературы — Задонщина. Эта повесть о победоносной битве Дмитрия Донского на Куликовом поле 1380 г. отличается большим сходством со Словом. Казалось бы, найдено было решающее доказательство того, что уже в XIV—XV вв. Слово о полку Игореве существовало, а его текст широко использован в воинской повести. Находка Задонщины до поры до времени приглушила голоса сторонников позднего происхождения Игоревой песни. И только русские писатели И. А. Гончаров и Л. Н. Толстой продолжали считать Слово позднейшей стилизацией. Вопрос о времени создания Слова был поставлен снова на повестку дня в 20-х гг. нашего века М. И. Успенским, а в конце 30-х гг. — французским славистом А. Мазоном и до сих пор не является решенным. Но быть может уже саму попытку установить время написания и автора Слова о полку Игореве следует признать безнадежной, так как не сохранилось ни рукописи этого произведения, ни прямых документальных свидетельств, связывающих памятник с каким-либо конкретным лицом? Конечно, нет. В настоящее время советское литературоведение, языкознание и источниковедение, вооруженное марксистско-ленинским мировоззрением, выработали строго научную методику датировки памятников, которая плодотворно применяется в трудах многих ученых. Для выяснения того, когда, где и кем было написано Слово о полку Игореве, необходимо тщательное и комплексное изучение всех его особенностей — исторических, литературных и языковых. Большинство сторонников древнего происхождения Слова датирует памятник временем около 1187 г., так как в нем содержится обращение к князьям Владимиру Глебовичу (умершему весною этого года)1) и Ярославу Галицкому (скончавшемуся в октябре 1187 г.), которые должны были бы еще здравствовать. 2) Считалось само собой разумеющимся, что автор «Слова» обращался к князьям как к живым. Однако А. И. Лященко предложил иную дату написания Слова — 1185 год.3) Но она противоречит здравице в честь князя Владимира Игоревича (находившегося в это время в плену). А если считать, что Слово написано после его возвращения (осень 1187 г.), то к этому времени уже умер князь Владимир Глебович. Пытаясь выйти из затруднительного положения, порожденного противоречивыми данными Слова, А. И. Соболевский допускал даже, что Слово, написанное в 1185 г., первоначально оканчивалось плачем Ярославны, а «как будто вторая часть принадлежала первоначально другому произведению, не "Слову о полку Игореве".4) Но этому предположению противоречит композиционная стройность сюжетной линии памятника и единство его стилистических приемов изображения. Строго говоря, обе даты (1185 и 1187 гг.) базируются только на произвольном допущении того, что обращение автора Слова к князьям, как к живым, должно означать, что произведение, содержащее это обращение, действительно написано при их жизни. Однако подобный литературный прием применяется и в литературных произведениях, написанных много лет, а иногда и столетий спустя после событий, к которым они относятся. И. А. Новиков в этой связи писал: «Нам кажутся эти охотно повторяемые доводы чистым недоразумением», ибо сцену с упоминанием князей Ярослава Галицкого и Владимира Галицкого, как живых, «можно написать не только позже апреля 1187 года, но и насколько угодно позже, хотя бы и в наше время». 5) Считая, что обращение автора Слова к Ярославу «не имеет датирующего значения», Н. С. Демкова относит составление памятника ко времени после 1188, но до 1196 г. (точнее, к 1194—1196 гг.) на том основании, что его автор провозглашает славу князю Всеволоду (умер в 1196 г.) и князю Владимиру (вернулся на [104] Русь в 1188 г.). 6) Но и эту аргументацию следует признать неудовлетворительной, ибо автор литературного произведения о делах минувших не обязательно должен был учитывать, жив ли тот или иной герой в то время, когда он писал свою Песню. Необходимы, следовательно, более прочные основы для датировки Слова концом XII в., а их, на поверку, не оказывается. Поэтому даже сторонники древности Слова постепенно начинают отказываться от сакраментальных датировок 1185 и 1187 годами. Так, О. В. Творогов уже не склонен придавать обращению к Ярославу хронологизирующего памятник значения. По его мнению, оно могло носить «в какой-то мере литературно-условный, риторический характер». 7) Раздавались голоса, которые относят Слово к началу XIII в. (вслед за О. Прицаком к этому времени склонился Р. О. Якобсон).8) Появляются попытки датировать Игореву песню серединой XIII в. (Л. Н. Гумилев, В. В. Мавродин).9) Высказана мысль о сложении памятника в конце XIII — начале XIV в. (И. Н. Голенищев-Кутузов).10) Наконец, В. В. Виноградов писал о происхождении «этого загадочного памятника, возникновение которого датируется XII—XV вв., а текст включает в себя элементы позднейших наслоений (до конца XVIII в.)». 11) Многослойным считает Слово О. Сулейменов, относя значительную часть его текста к XVI веку.12) О возможности позднейших вставок в текст Слова говорили В. Л. Янин и Н. Ф. Котляр.13) В статьях Дж. Феннелла и А. Данти приводятся новые данные в пользу более раннего происхождения Краткой Задонщины. 14) Наконец, появляются и работы, в которых отстаивается тезис о возникновении Слова в XVIII веке.15) Для решения вопроса о времени создания Слова о полку Игореве исследователи привлекают содержание памятника, сопоставляя его с известиями об истории Руси X—XII вв., содержащимися в других источниках. В самом деле, очень важно установить, был ли автор Слова современником похода Игоря 1185 г. или брал сведения о нем из письменных источников. Сторонники древнего происхождения Слова считают, что автор этого произведения описывал события 1185 г. независимо от летописных записей. Если будет доказано, что автор основывал свой рассказ на сведениях летописей или других источников, то тогда следует поставить другой вопрос — когда он мог использовать тексты, привлеченные им для создания своей Песни. Второе. Следует установить также, с какими источниками по жанру и текстологически сходно Слово о полку Игореве, на какие памятники письменности влияло оно и какие в свою очередь находят отзвук в его тексте. Здесь в первую очередь встает вопрос о близости Слова к Задонщине и к приписке 1307 г. псковского Апостола. Сторонники древнего происхождения Слова считают, что оба памятника основаны на этой древнерусской Песне. Нужно тщательно взвесить все данные в пользу этого предположения. Наконец, важнейшим датирующим элементом в исследовании Слова является язык этого произведения. Поэтому необходимо разобрать основные языковые особенности памятника и его так называемые «темные», т. е. неясные места, по-разному толковавшиеся исследователями. Сторонники древнего происхождения Слова считают, что памятник в целом сохранил черты древнерусского языка XII в., хотя некоторые его элементы, возможно, восходят к поздним спискам (или списку) XV—XVI веков. Особенно они обращают внимание на слова восточного происхождения, ибо некоторые из них, по их мнению, сохранили черты половецкого языка. В соответствии с этими тремя задачами и строится последующее изложение. Слово о полку Игореве перекрещивается с несколькими дошедшими до нас литературными памятниками, время написания которых хорошо известно. Речь идет о Кенигсбергской и Ипатьевской летописях, Задонщине и некоторых других. Поэтому в первых четырех главах настоящей работы16) делается попытка определить текстологические взаимоотношения между Словом о полку Игореве и связанными с ним произведениями древнерусской литературы и фольклора, т. е. установить, влияли ли эти памятники на текст Слова о полку Игореве или нет. Ответ на этот вопрос дает прочные основы для определения времени написания Слова о полку Игореве. В третьей главе рассмотрена также сама возможность принадлежности рассказа о походе русских князей на половцев 1185 г. в Слове о полку Игореве современнику этих событий. Большое значение для датировки и для определения автора любого литературного произведения имеет его язык. Поэтому в пятой главе работы содержится попытка изучения особенностей языкового строя и так называемых «темных мест» [105] Слова о полку Игореве с тем, чтобы выявить данные, говорящие о времени его составления и о предполагаемом авторе. В следующих двух главах (шестой и седьмой) на основании известных ранее и новых сведений, почерпнутых из архивов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Чернигова и Ярославля, восстанавливается биография и творческий путь первого владельца рукописи Слова о полку Игореве Ивана (Иоиля) Быковского. Здесь же рассматриваются запутанные обстоятельства издания Слова о полку Игореве Мусиным-Пушкиным. Наконец, в последней (восьмой) главе исследования автор рассказывает о судьбе Слова о полку Игореве в научной литературе XIX—XX вв. и стремится показать, как постепенно трудами многих поколений ученых накапливались данные для решения многих загадок, связанных с этим выдающимся памятником русской литературы. К работе приложены реконструкции архетипов Краткой и Пространной редакций Задонщины и Слова о полку Игореве. Советским историкам и литературоведам органически чуждо антинаучное деление ученых на «скептиков» (сторонников позднего происхождения Слова о полку Игореве) и «нескептиков» (защитников древнего происхождения памятника). Хорошо известно, что в 30-40-х гг. XIX в. царское правительство пыталось с помощью некоторых реакционных ученых, защищавших древность Слова о полку Игореве, противоборствовать представителям передового направления исторической и филологической наук. Первый доклад с изложением своих взглядов на время создания Слова о полку Игореве автор сделал на заседании отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома) в Ленинграде в феврале 1963 года. Через год (в мае 1964 г.) в Москве состоялось обсуждение первого (ротапринтного) варианта настоящей работы. 17) За истекшее десятилетие появилось много капитальных трудов по изучению Слова о полку Игореве. В частности, словарь-справочник, 18) сборник статей о взаимоотношениях Слова, Задонщины и Сказания о Мамаевом побоище,19) монографии В. П. Адриановой-Перетц о фразеологии Слова,20) Б. А. Рыбакова о Слове как памятнике XII в., 21) Д. С. Лихачева о Слове как памятнике древнерусской культуры. 22) Все они существенно продвинули вперед решение спорной проблемы. Однако автор только укрепился в своих представлениях о времени создания памятника. Поэтому ему пришлось значительно развить свою аргументацию и ответить на возражения и доводы оппонентов. В результате объем его монографии увеличился вдвое. И все же настоящая работа не претендует на всестороннее рассмотрение Слова о полку Игореве. В ней содержится лишь попытка решения вопроса об источниках, времени и авторе на основании итогов более чем полуторастолетнего изучения исследователями его исторического содержания, литературной формы и языкового строя. Автор отдает себе полностью отчет в том, что многие стороны этой важнейшей проблемы не могут быть решены в рамках одной монографии и для этой цели необходимы совокупные усилия специалистов в разных областях науки. Но он считает, что изучение Слова о полку Игореве находится на такой стадии, что коренные интересы советской науки требуют постановки этих важнейших вопросов. Пользуясь случаем, выражаю глубочайшую признательность акад. В. В. Виноградову, который взял на себя труд ознакомиться с текстом книги в рукописи и сделал автору много полезных замечаний. Дружескую помощь автору оказали в процессе создания этой работы Д. А. Авдусин, С. Н. Азбелев (Ленинград), С. И. Бернштейн, Е. Б. Бешенковский, М. Е. Бычкова, С. Н. Валк (Ленинград), Н. П. Визирь (Киев), В. Б. Вилинбахов (Ленинград), Л. Н. Гумилев (Ленинград), А. Грицкевич (Минск), А. П. Каждан, Т. Н. Каменева, С. М. Каштанов, А. И. Клибанов, В. Б. Кобрин, Б. А. Колчин, Н. Ф. Котляр (Киев), В. Д. Левин, Ю. А. Лимонов (Ленинград), В. В. Лукьянов (Ярославль), Я. С. Лурье (Ленинград), В. И. Малышев (Ленинград), А. Н. Мальцев, А. Ф. Медведев, В. С. Мингалев, А. Л. Монгайт, В. Н. Новопокровская (Орел), А. С. Орешников, В. Т. Пашуто, И. Плетнев (Чернигов), А. В. Позднеев, Б. Ф. Поршнев, В. Г. Смолицкий, И. Г. Спасский (Ленинград), Т. А. Сумникова, О. П. Суханова (Ленинград), Н. И. Толстой, А. В. Храбровицкий, Л. В. Черепнин, М. М. Штранге и многие другие коллеги, в их числе сотрудники [106] научной библиотеки Института истории АН СССР и архивов Москвы, Ленинграда, Киева и Чернигова. Всем им автор приносит искреннюю благодарность. А. И. Мусин-Пушкин и Слово о полку ИгоревеТеперь нам остается выяснить, как Слово о полку Игореве попало к А. И. Мусину-Пушкину и почему он выдал его за п амятник XII века. Сведения о жизни, служебной и научной деятельности Мусина-Пушкина очень скупы. Их сообщил прежде всего он сам в неподписанной автобиографии,23) а затем в несколько расширенном и исправленном виде К. Ф. Калайдович.24) Родился Алексей Иванович Мусин-Пушкин в 1744 г. в старинной дворянской семье. В 1757 г. поступил в Петербургское артиллерийское училище. По выходе из него до 1772 г. служил в артиллерии адъютантом при любимце Екатерины графе Г. Г. Орлове. Уже в эти годы он проявлял интерес к русской литературе и литераторам.25) Во время длительного путешествия по Германии, Англии, Франции, Швейцарии, Голландии и Италии (1772—1775 гг.) собрал большую коллекцию картин, эстампов и бронзы. Сразу же по возвращении в Россию в 1775 г. получил придворный чин церемониймейстера, а в 1789 г. стал директором училища «чужестранных единоверцев». По представлению Е. Р. Дашковой ловкий царедворец в том же году (17 ноября 1789 г.) был избран членом Российской Академии наук.26) 26 июня 1791 г. Мусин-Пушкин был назначен обер-прокурором Синода.27) Хотя в дела Синода он не вмешивался, но свое пребывание на этой синекуре использовал с максимальной для себя выгодой. И дело не ограничивалось только бесконтрольной тратой штатных сумм ведомства. В эти годы Екатерина II проявляла большой интерес к российской истории. Предприимчивый вельможа решил использовать эту страсть императрицы для того, чтобы войти в фавор. 28) Уже в августе 1791 г. он добился издания указа о присылке к нему в Синод рукописей исторического содержания из всех монастырей. Началась также бурная собирательская деятельность обер-прокурора. Источником ее были не только отдельные приобретения, но и тот фонд «летописцев», который образовался в Синоде. 29) Почти одновременно Мусин-Пушкин с помощью И. Н. Болтина стал выпускать в свет одно за другим издания источников: первыми из них были «Правда Русская, или законы великих князей Ярослава Владимировича и Владимира Всеволодовича Мономаха» и «Книга Большому чертежу, или Древняя карта Российского государства» (1792 г.). Деятельность Мусина-Пушкина получила высочайшее одобрение, и 22 сентября 1792 г. он был пожалован орденом Владимира второй степени. Одновременно в его распоряжение передали типографию Горного корпуса, где синодальный прокурор издал «Духовную в. кн. Владимира Мономаха детям своим» (1792 г.) и «Историческое исследование о местоположении Древнего Российского Тмутараканского княжения» (1794 г.). Отныне Мусин-Пушкин сделался как бы придворным консультантом по историческим вопросам. 11 марта 1794 г. по указу императрицы он стал ввиду длительной болезни И. И. Бецкого «преемником» президента Академии Художеств. Уже в декабре Мусин-Пушкин вступил в конфликт с советом Академии по поводу выбора директора и добился того, что императрица отменила определение совета «яко недельное».30) 15 сентября следующего года любимец императрицы сделался окончательно президентом Академии Художеств, а незадолго до смерти своей высочайшей покровительницы был награжден орденом Александра Невского. Сразу же после смерти императрицы звезда Мусина-Пушкина закатилась. Уже в 1796 г. Павел I ликвидировал училище «единоверцев», а в 1797 г. уволил Мусина-Пушкина с должностей президента Академии Художеств и обер-прокурора Синода, пожаловав ему титул графа и назначив сенатором. Умер граф 1 февраля 1817 года. Для того чтобы разобраться в истории приобретения Слова о полку Игореве Мусиным-Пушкиным, нужно последовательно рассмотреть четыре вопроса: 1) был ли сборник, содержавший Слово, написанным единовременно или составным; 2) если он был составным, то кто был предшествующим владельцем хронографа, входившего в состав мусин-пушкинского сборника; 3) кому до Мусина-Пушкина принадлежала рукопись Слова; 4) находилось ли Слово в составе хронографа или всего мусин-пушкинского сборника в момент его приобретения синодальным обер-прокурором. [107] Начнем с первого вопроса. Его решение во многом зависит от того, был ли сборник написан одним почерком или содержал разновременные рукописи. Сами издатели сообщают очень глухо: «Подлинная рукопись по своему почерку весьма древняя». 31) Столь неопределенная характеристика показывает, что публикаторы колебались в более точной датировке рукописи «Хронографа». Но до нас дошли свидетельства пяти лиц, видевших рукопись сборника со Словом о полку Игореве. Первое из них принадлежит самому Мусину-Пушкину. В 1813 г. он писал Калайдовичу, что рукопись со Словом написана «довольно чистым письмом. По почерку и по бумаге должно отнести оную переписку к концу XIV или к началу XV века». 32) Датировка Мусина-Пушкина резко противоречит показаниям других очевидцев и в литературе не была принята. Считалось, что мало сведущий в палеографии вельможа просто ошибся, определяя по почерку время создания рукописи со Словом. Сборник видел и другой издатель Слова — А. Ф. Малиновский. Он действительно слабо разбирался в палеографии древних памятников и позднее дал себя обмануть А. И. Бардину, продавшему ему собственного изделия «список» Слова как древнерусскую рукопись. В 1815 г. Малиновский датировал рукопись Слова XVI веком («Сие произведение российской словесности XII столетия издано было... с рукописи XVI века»),33) а незадолго до смерти рекомендовал выставить ту дату, которую давал граф.34) Противоречивость показаний Малиновского не позволяет нам признать их надежными свидетельствами.35) Зато гораздо более существенно сообщение Калайдовича, который записал в своем дневнике следующее: «Карамзин полагает, что Песнь Игорева написана не в конце XVI (очевидно, описка: вместо XIV. — А. З.) и не в начале XV века, но в исходе сего столетия».36) Мнение Карамзина приведено Калайдовичем как контроверза Мусину- Пушкину. Видел рукопись Слова и видный палеограф А. И. Ермолаев. Правда, остается неясным, насколько пристально он знакомился с нею. Много позже А. Глаголев, ссылаясь на рассказ А. X. Востокова, передавал, что Ермолаев датировал рукопись XV веком. 37) В этом рассказе не вполне ясно, имел ли Ермолаев в виду всю рукопись сборника в целом или одно Слово о полку Игореве. Та же неясность сохраняется и в сообщении типографщика С. А. Селивановского, который печатал «Ироическую песнь». Он говорил Калайдовичу, что «видел в рукописи песнь Игореву. Она написана, точно, в книге, как сказано в предисловии, и белорусским письмом, не так древним, похожим на почерк Дмитрия Ростовского». 38) Вот и все показания лиц, непосредственно знакомившихся с мусин-пушкинским сборником.39) Итак, с одной стороны, перед нами сведения о том, что рукопись Слова составлена где-то в XV в., с другой — рассказ Селивановского о почерке конца XVII — начала XVIII века. Уже одно это наводит на мысль о том, что сборник был составным. В этой мысли исследователь укрепляется, обращаясь к изучению отдельных статей сборника и прежде всего хронографа, занимавшего основную часть рукописи. В сборнике со Словом о полку Игореве находился хронограф редакции 1617 года. 40) В этом можно убедиться из следующего сопоставления заголовков:
Судя по тому, что заголовок мусин-пушкинского списка хронографа 1617 г. совпадает с очень поздними списками этого памятника, то вряд ли его можно [108] датировать временем ранее второй половины XVII века. 43) Да и сообщение Селивановского о «белорусском письме» рукописи, сходном с почерком Дмитрия Ростовского, ведет нас к почерку конца XVII — начала XVIII века. И вместе с тем трудно просто отбросить наблюдение Карамзина и других очевидцев, датировавших рукопись Слова XV веком. Тогда совершенно естественно предположить, что сборник был составным и что почерком конца XVII — начала XVIII в. был написан хронограф 1617 года. О том, что свидетельство Селивановского относится именно к хронографу, можно судить по словам Евгения: «Мусин-Пушкин в 1795 году нашел сiю Поэму при одном старинном Белоруского письма Хронографе».44) Д. Н. Бантыш-Каменский также писал в биографии графа, что Песнь о полку Игореве «найдена им в одном белорусском сборнике». 45) Итак, ответ на первый из поставленных вопросов будет совершенно четок: сборник со Словом о полку Игореве был составным. 46) Переходим теперь ко второму вопросу. Издатели «Ироической песни» ничего не сообщили читателям, как и откуда приобрел это произведение Мусин-Пушкин. Только в 1813 г. граф под настойчивым напором Калайдовича сообщил этому пытливому исследователю, что Слово о полку Игореве попало к нему от бывшего архимандрита Спасо-Ярославского монастыря Иоиля. Письмо Мусина-Пушкина полностью не сохранилось и известно лишь в извлечениях, приведенных Калайдовичем уже после смерти графа. Из него видно, как Мусин-Пушкин старается затемнить историю приобретения рукописи. Он сообщает, в частности, что Слово в составе других рукописей Иоиля приобрел не он сам, а его комиссионер, причем тогда, когда бывший спасо-ярославский архимандрит впал в нужду.47) Однако, Иоиль получал большую пенсию (500 руб.).48) Косвенное свидетельство того, что часть книг Иоиля попала синодальному обер-прокурору, можно усмотреть в том, что экземпляр «Великого зерцала» (изд. 1633 г.), некогда принадлежавший этому архимандриту Спасо-Ярославского монастыря, ныне находится среди книг библиотеки синодальной типографии.49) Версию о покупке комиссионером Слова приводит также и Евгений Болховитинов: граф якобы купил рукопись «в числе многих старых книг и бумаг у Ивана Глазунова, все за 500 р., а Глазунов после какого-то старичка за 200 р.». 50) Сходную легенду сообщает и сын Н. Н. Бантыш-Каменского Д. Н. Бантыш-Каменский («все эти драгоценные хартии были куплены безграмотным книгопродавцом за двести рублей ассигнациями»). 51) Близость рассказов Евгения и Д. Н. Бантыш-Каменского очевидна. Последний был не только сын одного из издателей Слова, но и находился в постоянной переписке с графом. Поэтому его сведения о приобретении рукописи восходят скорее всего к самому Мусину-Пушкину. Это косвенно подтверждается и его автобиографией. В ней Мусин-Пушкин рассказывает о том, как он в 1792 г. купил у одного букиниста за 300 р. массу древних рукописей («на трех телегах»), принадлежавших некогда П. Н. Крекшину. 52) Среди этих рукописей он называл летописи Лаврентьевскую и кн. Кривоборского. Хотя Мусин-Пушкин о Слове умалчивал, но существо его рассказа было близко к сведениям Евгения и Д. Н. Бантыш-Каменского. Книгопродавец В. С. Сопиков, крайне раздосадованный, мягко выражаясь, неточностями этого рассказа, написал письмо Калайдовичу. В нем он сообщил, что рукописи Мусиным-Пушкиным были куплены у него не в 1792 г., а в 1791 г. и не содержали никаких древних материалов (среди них находились лишь печатные указы Анны Иоанновны и 37 книг журнала о деяниях Петра Великого). Все рукописи помещались «на одних обыкновенных роспусках». 53) Лаврентьевская летопись и летопись Кривоборского были приобретены графом совсем другим путем.54) Основываясь на сообщении Н. М. Карамзина, Л. А. Дмитриев допускает, что рукопись Слова граф присвоил из монастырских книг, полученных им в качестве обер-прокурора Синода по указу Екатерины II 1791 года. Он склонен полагать, что Слово находилось в одном из хронографов, полученных Мусиным-Пушкиным из Ярославля, оставленных им у себя и погибших вместе со всем собранием.55) Действительно, обер-прокурор Святейшего Синода беззастенчиво пополнял свои книжные богатства за счет рукописей, попавших в Синод. Но в составе хронографов, отправленных Мусину-Пушкину из Ростовской консистории 20 ноября 1792 г., Слова, судя по их описанию, не было. 56) В Ярославской консистории хранилось [109] всего пять хронографов и одна Степенная книга. Из их числа три хронографа и Степенная были отобраны для посылки в Синод по указу 1791 года. В опубликованном Л. А. Дмитриевым деле о высылке хронографов и Степенной книги обер-прокурору Синода эти рукописи перечислены в следующем порядке: 1. Хронограф, писанный скорописью на 570 лл. 2. Хронограф, писанный полууставом на 480 лл. 3. Хронограф, писанный полууставом на 429 лл. 4. Степенная на 752 лл. В описи ярославских хронографов с перечисленными рукописями точно совпадает по размерам только Степенная книга (752 лл.), остальные размеры соответствуют лишь приблизительно (хронографы в 590, 492 и 432 листа). 57) Скорописный хронограф представлял собою редакцию 1617 года. Остальные два, очевидно, хронографы редакции 1512 года. Второй, по описанию, был «полууставного, а в некоторых местах и скорописного письма», а третий писан «полууставом новейшего письма». Никаких данных о других произведениях, которые входили бы в состав хронографов, это описание, сделанное компетентной комиссией из трех лиц, не сообщает. О. В. Творогов обратил внимание на то, что в хронографе № 3 содержались «описания времен княжения Московского, земель, нравов и обычаев разных народов, Россию населяющих». Он сопоставил это с тем, что в конволюте со Словом содержалась Новгородская I летопись, где говорилось о сходных сюжетах. Но если б речь шла об этой летописи, то в первую очередь сказано было бы о новгородцах. К тому же под приведенную запись ни Девгениево деяние, ни Слово, ни Сказание об Индийском царстве подвести уже совсем нельзя. Поэтому из описания хронографа сделать вывод о наличии в одном из них Слова, конечно, нельзя. Да и объем хронографов, полученных из Ярославля, соответствует обычным рукописям подобного типа без каких-либо значительных пополнений текста. Следовательно, хронографы, полученные Мусиным-Пушкиным из Ярославской консистории, Слова о полку Игореве не содержали. 58) К тому же они отправлены были в столицу и получены там позже появления первого сведения о Слове в печати. Но у нас есть и еще одна возможность удостовериться, что Мусин-Пушкин не присвоил хронограф со Словом из рукописей, поступивших в Синод: подобного хронографа нет в реестре не возвращенных графом монастырских рукописей из числа посланных в Синод по распоряжению Екатерины II 1791 года.59) Происхождение хронографа, где позднее оказалось Слово о полку Игореве, более или менее ясно. Вряд ли следует особенно гадать, откуда Мусин-Пушкин получил хронограф: это был хронограф «в десть» Спасо-Ярославского монастыря (редакции 1617 г., судя по его отрывкам, приведенным Дмитрием Ростовским). Уже в описи 1788 г. на полях сделана весьма странная помета: «Оной хронограф за ветхостью и согнитием уничтожен». Тут же карандашем поставлено четыре вопросительных знака. «Значит, — пишет Е. М. Караваева, — кому-то показалось подозрительным такое «согнитие». 60) Под предлогом «согнития» Иоиль мог взять себе хронограф, который потом попал в руки Мусина-Пушкина. Сохранился экземпляр издания «Великого зерцала» (1633 г.). 61) Он также принадлежал Дмитрию Ростовскому, а потом попал к Иоилю. 62) Г. Н. Моисеева обнаружила еще одну опись рукописей Спасо-Ярославского монастыря (1787 г.), в которой против четырех рукописей помещена помета «отдан» (в описи 1788 г. пометы «за ветхостью и согнитием уничтожены»). Среди них был и «Хронограф в десть». Можно допустить, вслед за Моисеевой, что хронограф был присвоен Иоилем, а от него попал к Мусину-Пушкину. 63) Но нет никаких оснований считать, что в нем уже содержалось Слово о полку Игореве. Итак, на второй из поставленных вопросов можно дать также более или менее определенный ответ: хронограф 1617 г. был приобретен графом от Иоиля. У нас нет также никаких оснований отвергать сообщение Мусина-Пушкина о том, что и Слово он получил от архимандрита Спасо-Ярославского монастыря. Отстаивая достоверность сведений Мусина-Пушкина о первом владельце Слова, Ф. Я. Прийма приводит еще следующие доводы. Сообщение Мусина-Пушкина носило частный характер и не рассчитано было на публикацию: Калайдович издал его только через семь лет после смерти графа. К тому же Калайдович ни разу не подвергал его сомнению. 64) Зная Калайдовича как дотошного исследователя, граф [110] вряд ли решился бы на заведомый обман, а видимость благожелательного отношения Калайдовича к Мусину-Пушкину и к Слову давала последнему надежду, что тот не злоупотребит его доверием. Признает достоверным сведение о приобретении Слова у Иоиля и Д. С. Лихачев. 65) Отвергая предположение Л. А. Дмитриева, сделанное им в 1962 г., следует признать более убедительной его гипотезу 1960 г.: «Весьма вероятно, — писал он, — что хронографы в августе 1792 г. были посланы Мусину-Пушкину в то время, когда у него на руках уже был хронограф со «Словом о полку Игореве». 66) Дмитриев позднее писал, что «если бы Иоилю было известно «Слово о полку Игореве», то он или сам бы предпринял издание этого памятника, или сообщил бы о своей находке в печати». 67) Довод серьезный, при одном условии: Слово о полку Игореве — памятник XII века. Но если Слово находилось у Иоиля и он все-таки его не издавал, то остается предположение: Иоиль знал, что это произведение не было древним памятником. Если же считать Ивана (Иоиля) Быковского автором Слова, то невозможность для ярославского архимандрита издать это произведение, проникнутое передовыми рационалистическими идеями, наполненное «Даждьбожьими внуками», станет самоочевидной.68) Ведь «писатели XVIII века, — пишет П. Н. Берков, — очень строго отбирали материал и сознательно оставляли за пределами издания произведения, которые считали по разным причинам неудобным выпускать в свет под своим именем». 69) Итак, ответ на третий вопрос также однозначен: Слово попало к Мусину-Пушкину от Иоиля Быковского. О времени знакомства Мусина-Пушкина с Иоилем можно только догадываться. Скорее всего это произошло в Ярославле (в Ярославском уезде находилась основная вотчина Мусиных-Пушкиных). Здесь екатерининский вельможа бывал не раз. Архиепископ Арсений Верещагин, например, писал о своих встречах с Мусиным-Пушкиным в Ярославле в 1786 и 1797 годах. 70) Между этими деятелями существовали прочные дружеские отношения. 71) Текст Слова о полку Игореве Мусин-Пушкин получил от Быковского, очевидно, не ранее 1788 г. (когда Иоиль ушел «на покой») и не позднее как около 1791 года. Это видно из анализа работы Мусина-Пушкина над текстом памятника и первого сведения о нем в печати, появившегося в начале 1792 года. Камнем преткновения для тех исследователей, которые относили составление Слова о полку Игореве к позднему времени, являлась перекличка его с припиской к псковскому Апостолу 1307 года... Примечания1) Дата смерти кн. Владимира Глебовича в Лаврентьевской летописи дана по ультрамартовскому стилю —18 марта 6696 г., т. е. 1187 г., в Ипатьевской летописи —18 апреля мартовского 6695 (1187 г.) (см. Бережков Н. Г. Хронология русского летописания. М. 1963, с. 83). 2) Дату 1187 г. принимают: И. Н. Жданов (Жданов И. Н. Сочинения. Т. 1. СПб. 1904, с. 442), В. Н. Перетц (Перетц В. Н. Слово о полку Iгоревiм. Київ. 1926, с. 50), Д. С. Лихачев (Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве. М.-Л. 1955, с. 143) и многие другие. 3) Лященко А. И. Этюды о «Слове о полку Игореве». — Известия Отделения русского языка и словесности (ОРЯС). 1926, т. 31; ту же дату (лето 1185 г.) принимает и Б. А. Рыбаков (Рыбаков Б. А. «Слово о полку Игореве» и его современники. М. 1971, с. 182). 4) Соболевский А. И. К «Слову о полку Игореве». — Известия ОРЯС. 1929, т. 2, кн. 1, с. 174-180. 5) Новиков И. А. «Слово о полку Игореве» и его автор. М. 1938, с. 76. О более поздней датировке см.: Pritsak О. The Igor' Tale as a Historical Document. — The Annals of the Ukrainian Academy, Vol. 12(1969—1972), № 1-2. 6) Дёмкова Н. С. К вопросу о времени написания «Слова о полку Игореве». — Вестник Ленинградского университета, 1973, № 14, вып. 3. 7) Творогов О. В. Примечания. В кн.: Слово о полку Игореве. [Библиотека поэта. Большая серия]. Л. 1967, с. 509. 8) Jakobson R. Selected Writings. Vol. 4. The Hague — Paris. 1966, p. 689; Яценко Б. И. Солнечное затмение в «Слове о полку Игореве». — Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ). Т. 31. Л. 1976, с. 122. 9) Гумилев Л. Н. Монголы XIII в. и «Слово о полку Игореве». — Доклады и сообщения отделения [111] этнографии, вып. 2. Л. 1966, с. 55-80; Gumilev L. N. Les Mongols du XIII-ё siecle et le «Slovo о polku Igoreve». — Cahiers du Monde Russe et Sovietique, 1966, т. 7, p. 37; eго же. Поиски вымышленного царства. М. 1970, с. 305 сл.; его же. Может ли произведение изящной словесности быть историческим источником? — Русская литература, 1972, № 1; Белявский В. А. По поводу извечного антагонизма между земледельческим и кочевым населением Восточной Европы. В кн.: Славянорусская этнография. Л. 1973, с. 101 сл.; Мавродин В. В. К. Маркс и Киевская Русь. — Вестник ЛГУ, 1968, № 8, с. 9. 10) Golenishschew-Kutusow I. Das Igorlied und seine Probleme. — Sowjet Literatur, 1965, № 3, S. 148. 11) Виноградов В. В. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры. — Вопросы языкознания, 1968, № 1, с. 3. 12) Сулейменов О. Аз и Я. Алма-Ата. 1975, с. 21. 13) Янин В. Л. Берестяные грамоты и проблема происхождения новгородской денежной системы XV в. — Вспомогательные исторические дисциплины. Сб. 3. Л. 1970, с. 168-169; Котляр М. Ф. Чи мiг Роман Мстиславич ходити на половцiв ранiше 1187 р.? — Украiнський iсторичний журнал, 1965, № 1, с. 117-120. 14) Fennell J. The Slovo о polku lgoreve: The Textological Triangle. — Oxford Slavonic Papers, 1968, № 1, pp. 126-127; ejusd. The Recent Controversy in the Soviet Union over the Authenticity of the Slovo. In: Russia: Essays in History and Literature. Leiden. 1972; Fennell J., Stokes A. Early Russian Literature. Lnd. 1974, pp. 191-206; Danti A. Criteri e metodi nella edizione della «Zadonscina». — Annali della Facolta di Lettere e Filosofia della Universita degli studi di Perugia. Vol. 6 (1968—1969). Roma. 15) Moser Ch. The Problem of the Igor Tale. — Canadian-American Slavic Studies, 1973, Vol. 7, № 2; Frest K. Karamzin und das Igorlied. — Anzeigen fur Slavische Philologie, 1974, Bd. 7. 16) Речь идет о главах: «Краткая и пространная редакции Задонщины», «Задонщина и Слово о полку Игореве»; «Русские летописи и Слово о полку Игореве», «Слово о полку Игореве и литературное наследие XI—XVIII веков». — Ред. 17) Неподписанная хроника этого обсуждения (Обсуждение одной концепции о времени создания «Слова о полку Игореве»), опубликованная в журнале «Вопросы истории» (1964, № 9, с. 121-140, авторы — В. А. Кучкин, О. В. Творогов) не дает достаточно точного представления ни о характере обсуждения, ни об аргументации, развивавшейся отдельными участниками. В частности, использовать ее, чтобы составить представление об аргументации автора, развернутой в его труде и его заключительном слове, совершенно недопустимо. 18) Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». Вып. 1-5. М.-Л. 1965—1978. 19) Слово о полку Игореве и памятники куликовского цикла. М.-Л. 1966. 20) Адрианова-Перетц В. П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI—XIII веков. Л. 1968. 21) Рыбаков Б. А. Слово о полку Игореве и его современники. М. 1971; его же. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М. 1972. 22) Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л. 1978. 23) Записка для биографии е. с. графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. — Вестник Европы, 1813, ч. 72, № 21-22. См. также: Аксенов А. И. А. И. Мусин-Пушкин — источниковед и археограф. М. 1969 (дипломная работа, защищенная в МГИАИ); его же. Из эпистолярного наследия А. И. Мусина-Пушкина. — Археографический ежегодник за 1969 год. М. 1971; Материалы архива Мусиных-Пушкиных см.: Центральный государственный архив древних актов (ЦТАДА) СССР, ф. 1270, оп. 1, ч. 1, д. 27-29. 24) Калайдович К. Ф. Биографические сведения о жизни, ученых трудах и собрании российских древностей графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. — Записки и труды Общества истории и древностей российских (ОИДР). Ч. 2. М. 1824. 25) См. его письмо 1769 г. А. П. Сумарокову о Вольтере (Отрывки из переписки А. П. Сумарокова (1755—1773 гг.). — Отечественные записки, 1858, т. 116, с. 584-585). 26) Сухомлинов М. И. История Российской академии. Вып. 7. СПб. 1885, с. 162 и др. 27) Центральный государственный исторический архив (ЦГИА) СССР, ф. 797,1791 г., д. 31; Благовидов Ф. В. Обер-прокуроры Святейшего Синода в XVIII и в первой половине XIX столетия. Казань. 1899, с. 272; Бирюков Н. А. Эпизод из жизни П. А. Словцова. — Исторический вестник, 1904, сентябрь, с. 883-884. 28) Об интересе Мусина-Пушкина к собиранию редкостей сохранился рассказ японского капитана Кодаю, побывавшего в 1791 г. в Петербурге. «Мусин-Пушкин, — пишет он, — житель Петербурга, был человеком редкой любознательности. У него было много странных вещей. Среди них большой «элекитер» (?) в 2 кэн шириной и 3 кэн длиной»... (Кимура С, Накамура Е. Изучение древнерусской литературы в Японии. — ТОДРЛ. Т. 18. М.-Л., 1962, с. 585). [112] 29) См. возбужденное новым обер-прокурором Синода В. А. Хованским обвинение Мусина-Пушкина в присвоении монастырских рукописей (ЦГИА СССР, ф. 797, оп. 1, дело 1522). О нем см.: Ю. К. [Бегунов]. В секторе древнерусской литературы. — Русская литература, 1963, № 3, с. 232. 30) Кондаков С. Н. Юбилейный справочник императорской Академии Художеств 1764—1914. СПб. 1914, с. 19. 31) Ироическая песнь о походе на половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия с переложением на употребляемое ныне наречие. М. 1800, с. VII. 32) Калайдович К. Ф. Ук. соч., с. 35. 33) Дмитриев Л. А. История первого издания «Слова о полку Игореве». М.-Л. 1960, с. 155. 34) «Малиновский утвердил мнение, Мусиным-Пушкиным свету сообщенное, — именно, что подлинная рукопись... принадлежала к концу XIV в.». Он «горько жаловался на критиков и завещал (так случилось!) выставить этот самый век подлинной рукописи» (Дубенский Д. Слово о полку Игореве. М. 1844, с. VIII). 35) Впрочем, XVI веком датировал рукопись Слова, очевидно, не один Малиновский. Во всяком случае, в письме В. М. Перевощикову от 27 января 1829 г. митрополит Евгений писал: «Мусин-Пушкин, нашедший ее, уверял, что она найдена в книге письма XIV века, другие видевшие книгу уверяли, что она не старее XVI века» (Центральный государственный архив литературы и искусства СССР, ф. 46, П. И. Бартенева, рп. 4, д. 2, л. 72 об.). 36) Полевой Н. Любопытные замечания к Слову о полку Игореве. — Сын отечества, 1839, т. 8, с. 17. 37) Глаголев А. Умозрительные и опытные основания словесности. Ч. 4. СПб. 1834, с. 24-25. Сохранилась записка Востокова, написанная, очевидно, для Жуковского. В ней он писал: «Мне сказывал знаток (покойный А. И. Ермолаев), видевший рукопись до истребления ее в 1812 году, что почерк ее был полуустав XV века» (Рукою Пушкина. М.-Л. 1935, с. 385). В письме Г. И. Спасскому от 24 марта 1844 г. Востоков писал: «Что касается до Слова о полку Игореве, оно дошло до нас в списке XV века» (Государственный архив Красноярского края, ф. 805, оп. 1, д. 358, л. 14 об.). 38) Полевой Н. Любопытные замечания к Слову о полку Игореве. — Сын отечества, 1839, т. 8, с. 17. Возможно, к этому рассказу восходит известие Д. Н. Бантыш-Каменского о том, что Мусин-Пушкин нашел Слово в «одном белорусском сборнике» (Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей Русской земли. Ч. 2. СПб. 1847, с. 457-458). Об участии Селивановского в печатании Слова см.: Кононович С. С. Типографщик Селивановский. — Книга. Сб. 23. М. 1972, с. 100-123. 39) М. Н. Тихомиров называет среди них и Р. Ф. Тимковского (Тихомиров М. Н. Русская культура X—XVIII вв. М. 1968, с. 66). Это ошибка. 40) Впервые этот вывод сформулирован еще Е. В. Барсовым (Барсов Е. «Слово о полку Игореве» как художественный памятник Киевской дружинной Руси. Т. 1. М. 1887, с. 63-65). Позднее его повторил М. Н. Сперанский, «Гранограф — писал он, — название хронографа — ранее конца XVI в. встретиться не могло: это — название 2-й редакции Хронографа, возникшей не ранее этого времени и законченной в 1617 году» (Сперанский М. Н. История древней русской литературы. М. 1920, с. 353). Л. А. Творогов пишет, что заголовок хронографа в сборнике со Словом относился «к тексту Хронографа московской редакции 1508 года» (Творогов Л. А. Слово о полку Игореве. Новосибирск. 1942, с. 16). Но достаточно обратиться к хронографу 1512 г., сохранившему текст хронографа 1508 г., чтобы убедиться в том, что Л. А. Творогов заблуждается: заголовок хронографа 1512 г. не столь близок к заголовку в сборнике со Словом, как хронограф 1617 г. («Пролог, сиречь собрание ото многих летописец, от Бытьи о сотворении мира» и т. д. (Полное собрание русских летописей. Т. 22, Ч. 1. СПб. 1911, с. 21). По О. В.Творогову, в сборнике со Словом находился хронограф Распространенной редакции 1617 г. (или памятник с его заголовком), которая не могла быть создана ранее первой четверти XVII века (Творогов О. В. К вопросу о датировке Мусин-Пушкинского сборника со «Словом о полку Игореве». — ТОДРЛ. Т. 31. Л. 1976, с. 139-140). 41) Библиотека Академии наук СССР (БАН), 45.10.16. 42) В другой рукописи хронографа 1617 г., относящейся к последней четверти XVII в. (БАН, Арханг., с. 132) заглавие то же, только вместо «о Македонии» — «от Александрии», а после «Гранограф» добавлено — «яже суть в книзе сей» (Описание рукописного отдела БАН. Т. 3, вып. 1. М.-Л. 1959, с. 182-183, 207). 43) Исходя из наличия в сборнике хронографа редакции 1617 г. и сведений Селивановского о почерке рукописи, С. Розанов склонен был датировать весь сборник второй половиной XVII века (Розанов С. Рец. на кн.: Перетц В. Слово о полку Iгоревiм. — Известия ОРЯС, Л. 1927, т. 32, с. 294). 44) Евгений. Игорев песнопевец. Биографии российских писателей. — Сын отечества, 1821, ч. 71, № 27, с. 34-37. 45) Бантыш-Каменский Д. Н. Ук. соч., с. 48. 46) Так отпадает одно из возражений Н. М. Дылевского против позднего происхождения Слова: Дылевский [113] считал, что автор XVIII в. не мог имитировать почерк целого сборника (Дылевский Н. М. Лексические и грамматические свидетельства подлинности «Слова о полку Игореве» по старым и новым данным. В кн.: Слово о полку Игореве — памятник XII века. М.-Л. 1962, с. 205-210). Но имитирован мог быть почерк не всего сборника, а одного Слова. А. С. Орлов полагал, что Хронограф и Временник со Словом могли составлять особую рукопись, которая лишь механически была присоединена ко второй половине сборника (Орлов А. С. Слово о полку Игореве. М.-Л. 1946, с. 51-52). К выводу о том, что сборник со Словом представлял собой конволют разновременных рукописей, пришел О. В. Творогов (Творогов О. В. К вопросу о датировке, с. 161). Однако тезис, что он был составлен в XVII в., им не доказан. 47) «До обращения Спасо-Ярославского монастыря в архиерейской дом, управлял оным архимандрит Иоиль, муж с просвещением и любитель словесности. По уничтожении штата остался он в том монастыре на обещании до смерти своей. В последние годы находился он в недостатке, а по тому случаю комиссионер мой купил у него все русские книги, в числе коих в одной под № 323 под названием Хронограф, в конце найдено Слово о полку Игореве» (Калайдович К. Ф. Биографические сведения, с. 35-36). 48) Прийма Ф. Я. К истории открытия «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ. Т. 12, М.-Л. 1956, с. 49. Интересно письмо Мусина-Пушкина П. И. Турчанинову о присылке списка духовных лиц, получавших «пенсион». В приложенном к письму списке от 27 апреля 1792 г. упоминается Иоиль (ЦГИА СССР, ф. 797, оп. 1,1792 г., д. 1143, лл. 3-4). 49) ЦГАДА СССР, собрание библиотеки Синодальной типографии, № 4115/3864, экз. «б». 50) Дмитриев Л. А. Ук. соч., с. 53. 51) Бантыш-Каменский Д. Н. Ук. соч., с. 453. 52) Вестник Европы, 1813, ч. 72, № 21-22, с. 78-80. 53) Дмитриев Л. А. История открытия рукописи «Слова о полку Игореве». В кн.: Слово о полку Игореве — памятник XII века. М.-Л. 1962, с. 416. 54) Ссылаясь на предположение Евгения о том, что псковский Апостол взят из Пантелеймоновского монастыря при устье реки Черехи, Н. Полевой писал: «Не отсюда ли достался графу А. И. Мусину-Пушкину сборник, в котором нашел он Слово о полку Игоревом?» (Московский телеграф, 1833, ч. 50, № 7, апрель, с. 424). Мнение Полевого, следовательно, нельзя считать основанным на «слухах» (Слово о полку Игореве. М.-Л. 1950, с. 354), ибо оно было обычной для своего времени ученой гипотезой и только. К тому же Евгений говорил лишь в общей форме о том, что из Пантелеймонова монастыря «много книг харатейных 13 и начала 14-го столетия взято в Московскую патриаршую библиотеку», не называя прямо Апостола 1307 года (Евгений. История княжества Псковского. Ч. 3. Киев. 1831, с. 117). 55) Дмитриев Л. А. История открытия рукописи, с. 420. Сходную мысль см. в статье: Филипповский Г. Ю. Дневник Арсения Верещагина (к истории рукописи «Слова о полку Игореве»). — Вестник Московского университета. 1973. Серия филология, № 1. 56) Дмитриев Л. А. История открытия рукописи, с. 426-429. Книги Ростовского архиерейского дома (пять хронографов и одна Степенная) были предметом «наиприлежнейшего рассмотрения», в результате которого не было найдено по российской истории ничего, «что бы не было напечатано и вновь к изданию подходило» (Прийма Ф. Я. К спорам об открытии «Слова о полку Игореве». В кн.: От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Л. 1969, с. 256-257). 57) Разнобой в описи мог объясняться наличием чистых листов в рукописях. 58) Прийма также отмечает, что «рукописные книги из Ростовского архиерейского дома... были односоставными» в отличие от мусин-пушкинского сборника (Прийма Ф. Я. К спорам, с. 256). См. также: Соловьев А. В. Ростовские хронографы и хронограф Спасо-Ярославского монастыря. — Летописи и хроники. 1973. М. 1974, с. 356. 59) ЦГАДА СССР, ф. 796, оп. 78, д. 750. 60) Барсов Е. В. Слово о полку Игореве. Т. 1, с. 60-61; Караваева Е. М. Хронограф Спасо-Ярославского монастыря в описи 1788 г. (К истории рукописи «Слова о полку Игореве»). — ТОДРЛ. Т. 16. М.-Л. 1960, с. 83. 61) См. также: Соловьев А. В. Ук. соч., с. 357-359. 62) Ср. надпись: «Его царского пресветлого величества окольничий господине Семен Феодорович Толочанов дарствова сию книгу архиерею Ростовскому Димитрию 166 году июня 30» (ЦГАДА СССР, ф. Библиотеки Синодальной типографии, № 4115/3864, экз. «б»). 63) Моисеева Г. Н. Спасо-Ярославский хронограф и «Слово о полку Игореве». Л. 1976, с. 54-59. Не доказано предположение и о том, что в сочинении В. Д. Крашенинникова «Описание земноводного круга» (где использован «Большой» Спасо-Ярославский хронограф) есть следы Слова о полку Игореве. Без каких-либо доказательств Соловьев считает, что хронограф, упомянутый в описи 1788 г., содержал Слово о полку Игореве (Соловьев А. В. Ук. соч., с. 359). [114] 64) Прийма Ф. Я. К истории открытия, с. 52-53. 65) Лихачев Д. С. Слово о полку Игореве. М.-Л. 1955, с. 3; Слово о полку Игореве. М-Л. 1950, с. 353. 66) Дмитриев Л. А. История первого издания, с. 309. 67) Дмитриев Л. А. История открытия рукописи, с. 411. 68) Прийма даже считает возможным допустить «на минуту, что он (Иоиль. — А. З.) мог, скажем, считать «Слово» любопытным чтением лишь для немногих и небезопасным и даже совратительным для широких читательских кругов» (Прийма Ф. Я. К спорам, с. 255). 69) Берков П. Об установлении авторства анонимных и псевдонимных произведений XVIII в. — Русская литература, 1958, № 2, с. 181. 70) Прийма Ф. Я. К истории открытия «Слова о полку Игореве», с. 48, 49. 71) Филипповский Г. Ю. Ук. соч. | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Высоко оценив поэтические и идейные достоинства «Слова о полку Игореве», уделив много внимания его изучению и горячей защите его древности, А. С. Пушкин считал это произведение исключительным для своей эпохи: «„Слово о полку Игореве“ возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности»; 1 «к сожалению, старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь и на ней возвышается единственный памятник: „Песнь о полку Игореве“».2 Прошло более ста тридцати лет с тех пор, как были сказаны эти слова. Русская культура XI—XII вв. за эти годы раскрылась во всей ее широте и значительности, в частности трудами многочисленных исследователей убедительно доказан высокий уровень литературного мастерства этого времени. И все же недооценка идейно-художественного значения литературы XII в. продолжает еще сказываться, особенно в трудах некоторых зарубежных литературоведов, и этим объясняется, видимо, то, что все еще упорно не прекращаются попытки перенести создание «Слова о полку Игореве» в другую эпоху, причем границы этой эпохи отодвигаются до XVIII в. включительно. Сознательно или неосознанно за этими попытками стоит убеждение, что писатель конца XII в. не был подготовлен всем предшествующим ходом развития русской литературы и литературного языка для создания такого выдающегося памятника. «Исторический и политический кругозор» автора «Слова» очерчен во всей его широте. Идейное содержание «Слова» как памятника остро публицистического, глубоко патриотического раскрыто историками и литературоведами с полной убедительностью. Но есть еще существенные пробелы в изучении тех стилистических средств, какими располагала русская литература конца XII в. для художественного воплощения в слове сложного идейного замысла автора. Вот почему тема «„Слово о полку Игореве“ и русская литература XI—XIII вв.» продолжает привлекать к себе внимание литературоведов, и конечной целью ее разработки должно явиться полное обоснование того, что при всем своеобразии этого гениального произведения оно так же закономерно включается в литературный процесс своего времени, как творчество Пушкина выросло на почве, подготовленной его предшественниками.
I
Двенадцатый век в развитии русской материальной и духовной культуры может быть назван «золотым веком», как именуют это время в истории соседней, грузинской, культуры. Стоит вспомнить получившие мировую известность памятники белокаменного зодчества этого времени, работы резчиков по камню, ювелиров, монументальную фресковую живопись владимирских и новгородских храмов XII в., широкое проникновение светских бытовых элементов даже в церковное по назначению искусство, исключительное внимание мастеров к совершенству формы, гармонии цветовых сочетаний, эмоциональной выразительности живописных и скульптурных изображений. Литературная культура XII в. находилась на таком же высоком уровне. Конец XI и начало XII в. ознаменовались созданием таких произведений, которые на многие века остались образцовыми. Повесть временных лет определила надолго направление русского исторического повествования: ее лучшие идейные и художественные качества — глубокий патриотизм, документальная точность рассказа о событиях и рядом стремление дать идеальные образы князей — защитников Русской земли, смелое обращение к народной памяти для восстановления событий дописьменного периода русской истории, выразительный живой язык, в дидактических отступлениях переходящий в искусно отработанную речь византийско-болгарской литературы, — всё это совершенствовалось и углублялось в летописании XII в., широко развивавшемся в разных областях Русской земли. Первое русское путешествие — «Житье и хоженье Данила Русьскыя земли игумена» — с начала XII в. вплоть до XVII в. стало классическим образцом для большинства описаний «чужих земель». «Житие Феодосия Печерского» наметило своеобразный путь развития русской агио-биографической литературы. Так блестяще начался XII век, продолжая литературную работу писателей второй половины XI в. Замечательное по своему своеобразию «Слово Даниила Заточника», торжественное ораторство «русского Златоуста» — Кирилла Туровского и гениальное «Слово о полку Игореве» завершают XII век, передавая достижения литературы «Летописцу» Даниила Галицкого, «Слову о погибели Русской земли» и циклу произведений, прямо связанных с темой татаро-монгольских нашествий 1237 и 1240 гг. Насколько усовершенствовался в XII в. русский литературный язык, видно и из того, какие успехи сделало в это время мастерство перевода. Стоит сравнить сделанный в середине XI в. местами довольно еще тяжелый по языку перевод греческой Хроники Георгия Амартола с блестяще выполненным в XII в. переводом памятника мирового значения — «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия. Переводчика XI в. В. М. Истрин характеризует как представителя той литературно-переводческой школы, достаточно технически опытной, которая «в общем» ставила задачей дать буквальный перевод греческого оригинала, хотя иногда прибегала к «свободному обращению» с оригиналом.3 Исследователь же переводов Иосифа Флавия Н. А. Мещерский имел полное основание дать этому переводу такую характеристику: «Хотя древнерусский перевод „Истории Иудейской войны“ Иосифа Флавия и опирается на иноязычный источник, мы имеем право рассматривать его как один из ценнейших памятников древнерусского литературного языка старшей формации Киевской эпохи. Автор древнерусского поэтического переложения, каким в сущности является перевод, сумел применить в своем труде все богатство лексики, фразеологии, словообразовательных возможностей, которые к тому времени были уже накоплены в языковой культуре Киевской Руси».4 Действительно, переводчик пользуется обоими типами литературного языка XII в. — книжного и народного (определения акад. В. В. Виноградова), прибегает к деловой и живой разговорной речи. Воинский стиль русских летописей и исторических повестей, применяемый переводчиком в боевых картинах, свободно сочетается у него с ораторским стилем речей; натуралистические описания голода в осажденном Иерусалиме включают живую разговорную речь; деловой язык привлекается для изображения городских укреплений. В целом при этом разнообразии применяемых языковых средств перевод обнаруживает и высокое мастерство переводчика, и богатство языка, способного передать сложное и разнообразное содержание такого значительного памятника мировой литературы. В русской литературе XII в. происходит начатое еще в XI в. освоение опыта византийско-болгарской литературы прежде всего в области создания литературных жанров. Процесс этот еще очень слабо изучен литературоведами, и пока приходится ограничиваться лишь отдельными наблюдениями. Между тем литература XII в. представляет большой интерес именно с точки зрения создававшихся в ней жанров, так как в это время намечается выход ее на путь самостоятельного развития устоявшихся жанровых форм, переданных на Русь через болгарские переводы. Поиски новых вариантов этих извне усвоенных жанров происходят в XII в. с учетом достижений устного народного творчества, которое продолжало интенсивно развиваться рядом с письменной культурой. Уже в XI в. построенное в форме богословского рассуждения о преимуществах Нового завета перед Ветхим заветом публицистическое рассуждение митрополита киевского Илариона, утверждающее церковную и политическую независимость молодого Русского государства от притязаний Византии, переходит в «славу» русским князьям-просветителям Владимиру и Ярославу и Русской земле. В этой «славе» переплетаются элементы церковного панегирика и исторических дружинных песен, воспевавших «великаго кагана нашея земли Владимера, внука стараго Игоря, сына же славнаго Святослава, иже в своя лета владычествующа, мужьством же и храбрьством прослуша в странах многих и поминаются ныне и словут. Не в худе бо и не в неведоме земли владычествоваша, но в Руской, яже ведома и слышима есть всеми конци земли». В обращении к умершему Владимиру — «Встани ... отряси сон ... Встани, виждь чадо свое Георгия» — звучит отголосок народного образа «смерть — сон», часто вплетающегося в причитания, хотя за этим обращением следует картина расцвета христианизованной Русской земли. Повесть временных лет, воспринявшая в самом истолковании смысла событий мировой и национальной истории историософию византийских хроник, словами народных преданий описывает прошлое Русской земли, перемежает повествование то «словом о казнях божиих», то живым красочным рассказом попа Василия об ослеплении Василька Теребовльского. Владимир Мономах соединяет в своем Поучении схему апокрифического завета патриарха и поучений «отца к сыну», «Ксенофонта еже глагола к сынома своима» и «Феодоры» к сыну, с которыми он мог быть знаком еще по «Изборнику», составленному в 1076 г. по приказанию его деда Святослава из книг, собранных прадедом — Ярославом Мудрым. Однако учительная схема этих поучений, свободное цитирование Псалтыри переходит под пером Мономаха в живой рассказ о его воинских «трудах» — «путях» — походах и подвигах смелого охотника. В этом скупом описании междукняжеских «усобиц» и в рассказе о том, как и он сам не раз «пожег землю и повоевав» своих противников — русских князей, разгонял и брал «полон» у половцев, ехал «сквозе полкы половечьскые», а они лишь «облизахутся на нас акы волцы стояще», — во всей этой части уже нет и следа тех образцов, которыми был подсказан, возможно, самый замысел Поучения. Самостоятельный как летописец, Нестор и как агиограф свободно отходит от требований жанра, перенесенного на Русь славянскими переводами византийских житий, вносит в идеализированный образ святого противоречащие ему черты, показывает такие жизненные ситуации, в которых проявляются запретные для инока настроения. Самое изложение житийной биографии обогащается лучшими приемами исторического повествования, причем в поле зрения этого старшего русского агиографа попадают такие явления повседневного быта, которые не останавливали на себе внимания Нестора-историка. Так, в конце XI в. создается своеобразный жанр, сочетающий каноническую схему византийского жития с четкостью рассказа и выразительностью прямой речи, выработанной в русском историческом повествовании. Не менее чем на два десятилетия старше «Слова о полку Игореве» другое «Слово», приписываемое «Даниилу Заточнику». Неизвестный автор этого «замечательного и едва ли не самого загадочного и спорного памятника древнерусской литературы»5 обнаруживает широкую начитанность в переводной учительной литературе, в книжных афоризмах, но смело соединяет их с мудростью «мирских притч». Он использует приемы торжественного ораторства («Въструбим яко во златокованные трубы, в разум ума своего...» и т. д.) и в то же время «в своей образной системе больше, чем какое-либо другое произведение русской литературы XI—XIII веков, опирается на явления русского быта».6 Книжная риторика и балагурство, острословие скоморошьего стиля причудливо сплетаются в этом «загадочном» произведении. Его автор владеет и богатствами переводной литературы, и живой русской речью, и скоморошьим устным творчеством. Жанровое оопределение — «Слово» — не помешало объединению этих разнородных струй в стройное целое. Был создан неповторенный в будущем своеобразный жанр, получивший при одной из переделок начала XIII в. (а может быть, и в первоначальном виде?) название «Моление». За рассмотренными примерами включения в рамки определенного литературного жанра элементов устных жанровых систем хронологически следует и «Слово о полку Игореве». И. П. Еремин в статье «Жанровая природа „Слова о полку Игореве“»7 критически пересмотрел мнения предшествующих исследователей, по-разному определявших жанр «Слова», включавших его то в песенные, то в повествовательные виды литературы, и кратко изложил свою точку зрения на «Слово» как на «произведение ораторского искусства», «единственный дошедший до нас памятник светского эпидейктического красноречия Киевской Руси». Более подробно этот тезис был обоснован И. П. Ереминым в 1950 г. в статье «Слово о полку Игореве как памятник политического красноречия Киевской Руси».8 В этой статье И. П. Еремин вводит в характеристику ораторской природы «Слова» один существенный элемент: «Это, — пишет он, — речь не только агитационная, посвященная острейшей политической проблеме своего времени — обороне границ Русской земли, обличительной критике княжеских „котор“, но одновременно и речь „похвальная“, выражаясь термином той эпохи, написанная во славу князей и дружины, борющихся за „христьяны на поганыя плъки“».9 Таким образом, все поэтические средства «Слова», по концепции И. П. Еремина, служат его книжному ораторскому жанру. Иначе подошел к вопросу о жанровой природе «Слова» Д. С. Лихачев, сформулировавший итоги своих наблюдений над ней во вступительной статье к изданию прозаических и поэтических переводов и переложений «Слова» в «Библиотеке поэта».10 В «Слове о полку Игореве» «мы имеем еще не сложившийся окончательно, новый для русской литературы жанр, — жанр нарождающийся, близкий к ораторским произведениям, с одной стороны, и к „плачам“ и „славам“ народной поэзии — с другой».11 Итак, в «Слове» «произошло столкновение жанровых систем, жанровая природа „Слова“ оказалась неопределенной».12 Концепция Д. С. Лихачева объясняет обилие в «Слове» устно-поэтических образов воздействием на автора определенных устных жанров, но предупреждает: «„Слово“ близко к ним (плачам и славам), но в целом это, конечно, не плач и не слава. Народная поэзия не допускает смешения жанров. Это произведение книжное, но близкое к этим жанрам народной поэзии».13 Напомню, что и в «Слове Даниила Заточника», предшествующем «Слову о полку Игореве», произошло аналогичное смешение ораторского жанра с иной формой народной поэзии — скоморошьим балагурством, с устными афоризмами, и в итоге жанровая природа «Слова — Моления» также оказалась неопределенной. Как отмечает Д. С. Лихачев, непосредственно соседствует со «Словом о полку Игореве» и по времени, и по близости к устным «славам» и «плачам» — «Похвала» князю Роману, которой начинается под 1201 г. Галицкая летопись, точнее — та ее часть, которую Л. В. Черепнин определил как «Летописец Даниила Галицкого».14 После первого или второго нашествия на Русь татаро-монголов было сложено «Слово о погибели Русской земли»,15 сохранившееся лишь в отрывке. Оно, по определению Д. С. Лихачева, «плач и слава», «жалость и похвала».16 Но в дошедшей до нас части читается лишь «патриотическое и одновременно поэтическое раздумье над былой славой и могуществом Русской земли».17 Однако и этой «славе» придает грустную тональность употребление прошедшего времени в воспоминаниях о том, что «покорено было богом крестьяньскому языку», как «Литва из болота на свет не выникиваху», а «немци радовахуся, далече будучи за синим морем», и т. д. «Слава» и «плач» слиты во всем замысле писателя. «Тем же грустным воспоминанием о былом могуществе родины, тою же „похвалою и жалостью“ овеяно и третье произведение этого вида — „Похвала роду рязанских князей“, дошедшая в составе повестей о Николе Заразском».18 Приведенные примеры XI—XIII вв. показывают, что это было время, когда одно за другим создавались своеобразные литературные произведения, сочетавшие разнородные книжные и устно-поэтические жанры, разные типы художественного и разговорного языка. Рядом с писателем такого, например, рода, как Кирилл Туровский, в совершенстве овладевшим формой византийского торжественного ораторства и создавшим прекрасные русские ее варианты, авторы перечисленных произведений выступают как своего рода экспериментаторы. Они не повторяют путь своих византийско-болгарских учителей, а пытаются в рамки готовых жанров включить формы, идущие от древнерусской устной поэзии, от ее повествовательных, песенных или афористических жанров. В ряду таких писателей автор «Слова о полку Игореве» выделяется тем мастерством, с каким он объединил традиции книжную и устную, слив их в своем неповторимом стиле, подчиненном общей идейно-художественной цели. * * * В построении «Слова о полку Игореве» давно было обращено внимание на вступительную часть, где автор вспоминает Бояна и не только темы его песен-«слав», но и его художественную манеру — пылкость воображения, объединение в песнях событий прошлого и настоящего. Сам автор «Слова» собирается начать «повести» «по былинамь сего времени, а не по замышлению Бояню». Относится ли это противопоставление ко всему дальнейшему рассказу или лишь к тому, в какой манере он будет начат, во всяком случае перед нами — размышления автора о способе поэтического изображения событий. Исследователи обычно сопоставляют эти размышления с заявлениями Кирилла Туровского и Константина Манассии. С наибольшей полнотой сравнение вступления к «Слову» с высказываниями Кирилла Туровского на темы о способе изложения проведено Д. С. Лихачевым.19 На сопоставлении этого вступления с введением к рассказу о Троянской войне Константина Манассии в его «Хронике» подробно останавливается Р. О. Якобсон.20 Д. С. Лихачев подводит такой итог сравнения вступления к «Слову» с сочинениями Кирилла Туровского: «Все основные элементы введения к „Слову о полку Игореве“ не составляют новшества: колебания в выборе стиля, обращение к предшественнику, противопоставление „притчей“ («по замышлению») — рассказу, „яве“ показывающему (т. е. «по былинамь сего времени»), и пр. Единственно чем введение к „Слову“ выделяется среди всех приведенных введений — это своим светским характером».21 Однако еще в середине XI в. в Хронике Георгия Амартола русский читатель мог познакомиться с рассуждениями о способах изложения исторической светской темы. Текст этого рассуждения, видимо, был труден для переводчика. В полном виде он в изданном В. М. Истриным списке XIII—XIV в. читается так: «Мнози внешних любословци, рекше премудрии, словолюбьци, образници же и творьци и временаписци о древних цесарих и о силных, и о какомь философе и о риторех же и о сущим язычником и лихыми словесы и устобеседия словущим деяния и вещания и нравы их, комуждо како жития си велеречья и повелениемь словес писаше, ни благих приимъше, ни благых оставльше, и благосудяще и многым (многыми) вещи (вещми) и другымь показаниемь (доб.: и плесканиемь), чювьствиемь же изречениемь се створиша, о собе пекущеся истиньных предания и исповедания чловеком полезная. Мы же бъшью сущии в утрьних (внутрьних) недостоинии раби рабом господа нашего Исуса Христа, непричастьни суще вънешнии фисология (фисиология), рекъше родословья, и кознословия от числа их суще не точью елиньскых, но (доб. и) древних образник, но и новых и велми о доблих и велелепых мужь умьных сказаниемь и временописаниемь изъобразиемь и учительствомь душеполезнымь беседовавъше истину нашимь желаниемь, и пресещаем (провещаем) страхомь божиемь и верою временьника, сего малаго и пременьшая книжица, изложихом сведущих от многа (многыих) мало прострохом, како с трудомь събравъше и сложивъше, еже вся же истина непосивна и неукрашена, зело имея твор, добра же и посивна велми волити с дерзновениемь и вещаниемь посивнымь изглаголати, яко паче волити бо с правдою тищати (вещати), некъли с лжею раширятися».22 С. П. Шестаков дает следующий перевод этого текста: «Многие языческие ученые, логографы, историки и поэты описывали деяния и речи, иногда и образ смерти древних царей и властителей, философов и риторов, людей, славных своим красноречием, но их напыщенные и длинные сочинения с трудом понимались и усваивались массой, так как они писали лишь из пустого тщеславия, из желания приобрести себе громкое имя, нимало не заботясь об истине и полезности своих учений и рассуждений. Я же, недостойнейший раб рабов господа нашего Исуса Христа, не обладаю ни ученостью, ни красноречием, прочитав не только древние языческие сочинения, но и душеполезные толкования, хронографии и поучения новейших, живших гораздо позже, почтенных и мудрых людей, с тщательностью и осторожностью, в страхе божием и летописной правде составил эту маленькую и ничтожную книжонку, для которой собрал со многим трудом из массы прочитанного лишь то немногое, что может принести пользу, книжку, представляющую всякую истину без прикрас и излагающую события просто, без всякой отделки, но зато содержащую все необходимое и полезное в кратких выражениях и с полнейшей ясностью».23 Итак, напыщенность («лихые словеса») и красноречье («велеречье») противопоставляются Амартолом заботе об истине — «пекущеся истиньных предания»; простое «неукрашено», но правдивое изложение предпочтительнее «с лжею» пространного. Конечно, монах Георгий Амартол считает предосудительным «велеречье» еще и потому, что оно идет от «елиньскых» — языческих — «ритор», он требует «душеполезного учительства», но все же «истину неукрашену» в историческом повествовании он ценит и за то, что, просто изложенная, она понятнее и полезнее людям. Эта мысль в своей основе очень близка к намерению автора «Слова» говорить «по былинамь сего времени, а не по замышлению Бояню», хотя, как увидим, к творчеству Бояна он относился с полным уважением — он для него и «вещий», и «смысленый». Очень близко рассуждение Амартола о вреде «велеречья», затемняющего смысл, к тому, что содержалось и в учительной византийской литературе. Например, в Пандектах Никона читаем: «Философи и ветии и списателе не обьщих полз ищюще, нъ да како сами тъкмо дивни будуть, смотряще, аще чьто хытро рекоша, и ти яко же в мраце съставльше, не явлено съкрыша».24 Пандекты Антиоха осуждают «многословесья зла, плетословья, лихословья».25 Пандекты Никона также явно против «мъногословия»: «пагуба мъногословью», «мъногословья мъногашьды ум отъя».26 И житие Федора Студита напоминало: «Не величание глагол и речии ветия душу весть съкрушати, нъ смерено слово».27 Древнерусского книжника с XI в. настораживали против излишнего «ветийства», хотя «ветии благочестия», те, кто «ветииствуя благословя владыку спасения нам», — церковные писатели пользовались уважением, почитались. Таким образом, задолго до Кирилла Туровского в русской литературе было известно аналогичное введению к «Слову» обращение к предшественникам. Амартол отвергает опыт «елинских любословьць», принимая за образец «сказания и временописания» (хронографы) «доблих и велелепых мужь». В своем отрицательном отношении к «елинским» «списателем» он близок к Пандектам Никона. Для Амартола «истина неукрашена», кратко изложенная, предпочтительнее «с лжею» распространенного повествования: «...паче волити бо с правдою вещати, некли с лжею раширятися». Пандекты Антиоха и Никона одинаково осуждают это «многословесье, плетословье»; «смерено», т. е. «неукрашено» (у Амартола), слово трогает слушателя-читателя, так утверждает автор жития Федора Студита. Этот призыв к простоте изложения, противопоставленной «велеречью», аналогичен разнице между рассказом «по былинамь сего времени» и рассказам «по замышлению Бояню». И если Пандекты Антиоха и Никона, автор жития имели в виду изложение религиозной темы прежде всего, то «мних Георгий Амартол» размышляет о способе исторического повествования, т. е. переносит требование ясности и простоты стиля в область светской тематики. Р. О. Якобсон сосредоточивает внимание на сопоставлении вступительной части «Слова» с предисловием Константина Манассии к рассказу о Троянской войне: «Аз восхотев брань съписати, яко же писавшими прежде пишет ся о неи, и хотя глаголати не яко же Омир съписует, прощениа прося от благоразумных. Омир бо сладкым языком и доброумным различными шаровы премудрости украшает словеса, инуду же много обращает и прелагает».28 Действительно, не осуждая «Омира» — Гомера, Манассия все же обещает «глаголати не яко же Омир съписует», т. е. как автор «Слова» — «не по замышлению Бояню», но манеру Гомера он описываетстоль же уважительно, как автор «Слова» — полет поэтической фантазии Бояна. Тем не менее по существу Манассия хочет избежать в своем рассказе о Троянской войне того же отхода от «истины» (Гомер «инуду же много обращает и прелагает»), который мних Георгий сурово называет «лъжей», и так же обещает не «украшать словесы» изложение, хотя и не осуждает «премудрости» и «сладкого языка» Гомера, как Амартол намеревается отойти от «велеречья» «елинских» писателей. Итак, позиция Манассии в вопросе об отношении к стилю своего предшественника несомненно очень близка к точке зрения автора «Слова» на поэзию Бояна. Но можно ли сравнивать и лексику Манассии с лексикой «Слова»? Ведь славянский перевод Хроники Манассии был сделан приблизительно через два столетия после создания Хроники. Мы не имеем основания категорически утверждать, что автор «Слова», читая греческий текст Хроники, мысленно перевел бы его той же лексикой и фразеологией, какую сам использовал в «Слове». Нельзя, правда, и столь же решительно отрицать такую возможность, учитывая, что именно в XII в. русский переводчик передавал часто греческий текст Иосифа Флавия выработанной фразеологией русского литературного языка своего времени, отходя от буквального перевода. Несомненно одно: на полстолетия раньше, чем автор «Слова», Константин Манассия размышлял о двух способах излагать события Троянской войны. Он весьма определенно охарактеризовал манеру Гомера, а о своей сказал кратко: «Аз восхотев брань съписати ... не яко же Омир съписует» («не по замышлению Бояню»). Предисловие Манассии аналогично размышлениям автора «Слова» и наряду с вступительными рассуждениями Георгия Амартола о разных способах повествования «о древних цесарих и о силных», с резкими осуждениями церковными писателями излишне украшенной речи, свидетельствует о том, что ничего необычного для русской литературы конца XII в. вступительная часть «Слова», как и мысли Кирилла Туровского, не представляет. Подобно своим предшественникам и современникам, автор «Слова» выбирает свой способ изображения исторического события, в чем-то отходя от «песнотворца» Бояна, в чем-то следуя за ним. Так перед нами встает вопрос: в какой мере этот выбор действительно увел автора от «замышления» Бояна? * * * В «Слове о полку Игореве» содержится некоторое количество данных о самом Бояне, о темах его песен и поэтическом стиле их. Боян был «пѣснотворецъ» «Святъславль» и любимец его сына Олега. Он пел, сопровождая пение игрой на гуслях, о «старом времени Ярославли». Героями его песен были «старый Ярослав», «храбрый Мстислав», поединок которого с касожьским князем принес победу под Тьмутороканью, «красный Роман Святославлич». Были, видимо, и песни Бояна о Всеславе Полоцком, из которых автор «Слова» привел заключительную «припѣвку»: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути». Бояну принадлежит и другая «припѣвка», ставшая пословицей: «Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы». Боян в своих песнях касался и современных ему событий — он пел «свивая славы оба полы сего времени», прошлое связывал с настоящим. Его покровитель Святослав Ярославич умер в 1076 г., и тогда Боян перешел к его сыну Олегу. Таким образом, время жизни Бояна падает на вторую половину XI в. Был он явно знаменитым «пѣснотворцем», если через сто лет помнили и его песни и припевки, продолжали именовать его «вѣщии» и «смысленыи». Автор «Слова» настолько хорошо помнит стиль песен Бояна, что может даже показать, как начал бы Боян «пѣснь Игореви»: «Не буря соколы занесе чресъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону Великому». До недавнего времени имя собственное Боян было известно по новгородской рядной грамоте, датируемой последней третью XIII в., и по названиям новгородских улиц, упоминаемым в Новгородской I летописи под 1300 и 1326 гг. (см. ниже, стр. 51). Но в ходе последних реставрационных работ в Киевской Софии на штукатурке XI в. была раскрыта вырезанная запись о покупке «Бояни земли». По характеру начертаний букв исследовавший эту запись С. А. Высоцкий29 датирует ее второй половиной XII в. Таким образом, запись дает старшее упоминание имени Боян, а другая запись (см. ниже, стр. 17), как увидим, содержит некоторые дополнительные данные, объясняющие довольно убедительно, почему автор «Слова» называет Бояна и Ходыну «Ольгова коганя хоти». Привожу полностью первую запись, раскрывая в скобках выносные буквы и титла. «М(ѣся)ця енаря въ 30 с(вя)т(а)го Ип(оли)та крила землю княгыни Бояню Всеволожаа передъ с(вя)тою Софиею передъ попы. А ту былъ попинъ Якимъ Дъмило, Пателеи, Стипъко, Михалько Нѣжьнович, Мих(а)л, Данило, Марко, Сьмьюнъ, Михал Елисавиничь, Иванъ Янычянъ, Тудоръ Тубыновъ, Илья Копыловичь, Тудоръ Бързятичь. А передъ тими послухы купи землю княгыни Бояню вьсю, а въдала на неи семьдесятъ гривьнъ соболии. А въ томь драниць семьсъту гривьнъ». Для датировки этой записи не только по палеографическим данным С. А. Высоцкий устанавливает, что «княгыни Всеволожа», купившая «землю Бояню», — это вдова князя Всеволода Ольговича (сына Олега Святославича — Олега Гориславича «Слова»), умершая в 1179 г. Ее муж умер в 1146 г., следовательно покупка совершена между 1146 и 1179 гг. (при жизни Всеволода Ольговича покупателем был бы он сам), что согласуется и с характером начертаний. Наименование княгини «Всеволожа» находим в летописном известии о ее смерти: «Преставися княгиня Всеволожая, приемьши на ся чернечьскую скиму и положена бысть в Киеве у святого Кюрила, юже бе сама создала» (Ипат. лет., 1179 г.). С. А. Высоцкий подтверждает отождествление имени покупательницы с вдовой Всеволода Ольговича — Марией Мстиславной — и тем, что в числе свидетелей покупки назван на первом месте «попин Яким Домило», которого в 1144 г. Всеволод Ольгович выдвинул на туровскую епископскую кафедру. «Попин» указывает, что Яким был выходцем из попов, но уже не поп, поэтому он выделен из следующего далее перечня свидетелей-попов. Добавим, что в 1146 г., после смерти Всеволода, Изяслав, сев на столе в Киеве, «посла брата свого Ростислава и Всеволодича Святослава на стрья своего Вячьслава и отя у него Туров и епископа туровьского Акима и посадника его Жирослава Яванковича и посади сына своего (Яро)слава в Турове» (Ипат. лет., 1146 г.). Итак, ставленник Всеволода Аким перестал быть епископом, поэтому он и назван так неопределенно — «попин»: он уже не епископ, но и не простой «поп». По близости к вдове своего покровителя он выдвинут на первое место среди свидетелей, о его епископстве еще помнили, но теперь именуют его только по происхождению: «попин» — из попов. Есть в этом перечне и имя попа Андреевского «Янчина» монастыря — «Иванъ Янъчынъ». Это был женский монастырь в Киеве, в котором «княгиня Всеволожая» и приняла, вероятно, «чернечьскую скиму». С. А. Высоцкий высказал предположение, что «земля Бояня» «некогда имела какое-то отношение к Бояну Слова о полку Игореве. Ко времени написания граффито Бояна уже не было в живых, но память о нем в местах, связанных с его именем, могла сохраняться в народе, совершенно так же, как до нашего времени в Киеве уцелели названия, связанные с его древней историей и топографией, например: Аскольдова могила, Дорогожич и др. Поэтому автор записи, сделанной на стене Софии Киевской, мог ограничиться всего лишь лаконичным указанием на принадлежность данной земли Бояну».30 Добавим, что совпадение имени владельца земли, купленной княгиней «Всеволожей», с именем «пѣснотворца» Святослава и любимца Олега трудно считать случайным: ведь Святослав был дедом, а Олег отцом князя Всеволода Ольговича, и естественно, что земля наследников этого любимца и песнотворца была куплена членом той же семьи. О том, что Бояна помнили даже в конце XII в. как знаменитого песнотворца, помнили и его песни, свидетельствует, как мы видели, и текст «Слова о полку Игореве». Что касается лаконичности записи, то материалы, опубликованные С. А. Высоцким, показывают, что она обычна в граффито, сделанных в XI—XII вв. кратко в расчете на осведомленность современников об отмеченных в этих записях лицах. Так, князья называются только по имени, без отчества, хотя одноименных князей в это время было много. Например есть запись: «М(ѣся)ця декембря в 4-е сътвориша миръ на Желяни Святопълк Володимиръ и Ольгъ».31 Здесь не указан ни год, хотя точно зафиксированы месяц и число, ни место — положение Желани, ни отчества князей. Очевидно, это событие и его участники были хорошо известны и не было необходимости уточнять сообщение о них. Так, видимо, считал и автор записи о покупке «земли Бояни». Возникает вопрос, связанный с отождествлением Бояна «Слова» с Бояном, чью землю купила «княгиня Всеволожа»: мог ли княжеский «пѣснотворец» быть землевладельцем? М. В. Щепкина приходит к заключению: «...княжеские певцы были свободными людьми. Возможно, некоторые из них были землевладельцами, другие — дружинниками, но они были связаны с местным князем и следовали за ним в поход и на съезды».32 Если еще в конце XII в. помнили, что Боян был именно княжеский — «Святъславль пѣснотворец» и даже «хоть» — любимец князя Олега, то есть все основания думать, что его богато одаряли и что среди этих даров были и земли, которые потомки продали в семью князей-покровителей их знаменитого предка. Боян исполнял свои песни под звуки гуслей — он был несомненно одним из участников тех пиршеств, которые устраивал Святослав в короткие годы своего княжения в Киеве и которые осуждал Феодосий Печерский, а вслед за ним, в тоне неприязни, описал Нестор в житии Феодосия: однажды, придя к Святославу, Феодосий «виде многыя играюща пред нимь, овы гусльныя гласы испущающем, другыя же оръганьныя гласы поющем и инем замарьныя пискы гласящем и тако вьсем играющем и веселящемъся, яко же обычаи есть пред князьмь».33 Но, несмотря на церковные запреты и осуждения, гусляр, играющий и поющий, оставался фигурой почитаемой в феодальных верхах, и на серебряном браслете, украшавшем знатную женщину XIII в., «мы видим фигуру молодого гусляра в колпаке, в длинной вышитой рубахе и с пятиугольными гуслями в руках».34 Таким, вероятно, в молодые годы был и Боян. Такие «гудьци» были и у соседних половецких ханов, причем они были настолько близки к ним, что исполняли и ответственные поручения. Об одном из них сохранились сведения в Галицкой летописи (Ипат. лет., 1201 г.): после смерти Владимира Мономаха половецкий хан Сырчан обратился к изгнанному «во Обезы» Отроку с призывом вернуться на родину, отправив единственного оставшегося у него «гудца» Ора, и наказал ему петь «песни половецкия» — так искусство должно было служить политике. И песни-славы Бояна, конечно, тоже служили обоим его князьям-покровителям. Различные объяснения даются исследователями выражению «Слова» — «коганя хоти». Так или иначе все они связывают это определение с Тьмутороканью. М. В. Щепкина относит определение «коганя» к самому Олегу, который княжил одно время в Тьмуторокани.35 А. В. Соловьев относит слова «коганя хоти» к жене Олега Гориславлича и титул «коганя» считает принадлежавшим Олегу Святославичу, так как, по свидетельству византийской вислой печати, «Михаил-Олег был в конце XI в. не только князем Тьмуторокани, но и Зихии, и «всей Хазарии» в Крыму. Крымские хазары были его данниками, поэтому он имел полное право носить титул «когана», жена его была «коганя хоть».36 Дополнительные данные к вопросу о том, какие русские князья в XI в. носили титул «каган», содержатся в граффито Киевской Софии. Частично сохранившаяся запись о княжении Святослава вполне убедительно отнесена к князю Святославу Ярославичу: «4 лета къняжилъ Сватославъ м(еся)ця мар... дьнь руга въдана... Сватославѣ аминьи». Среднюю часть записи С. А. Высоцкому не удалось расшифровать, но уже из уцелевших строк видно, что речь шла о «руге», т. е. плате, вносимой в церковь на помин души. «Руга» была «въдана» после смерти князя Святослава, который действительно княжил в Киеве неполных 4 года.37 Можно думать, что запись была сделана сразу после смерти князя, т. е. в 1076—1077 г., причем С. А. Высоцкий отмечает, что начертания букв ее напоминают почерки двух Изборников Святослава 1073 и 1076 гг. Тем же почерком сделана другая запись на фреске, изображающей святителя Николая: «Спаси г(оспод)и каг(а)на нашего». Фреска находится в той части храма, которая была пристроена «в пределах XI в., уже после смерти Ярослава Мудрого. В 1093 г. северная галерея (в которой находится фреска) уже существовала». Итак, заключает С. А. Высоцкий, упомянутого в записи «кагана» «надо искать начиная с года смерти Ярослава Мудрого (1054 г.) до пределов, ограниченных палеографическими особенностями записи», т. е. до конца XI в. Из всех князей, бывших великими князьями киевскими за этот промежуток времени, «один Святослав Ярославич имел христианское имя Николай. Надпись с призывом спасения „кагану нашему“ сделана на изображении Николая — патрона Святослава Ярославича, поэтому кажется вполне логичной мысль, что в рассматриваемом граффито каганом назван Святослав, княживший в Киеве с 1073 по 1076 гг.». Вероятно, предполагает С. А. Высоцкий, граффито было сделано во время последней болезни Святослава.38 Итак, выясняется, что титул «каган» носил не только Ярослав Мудрый, но и его сын Святослав. Может быть, по традиции этот титул затем перешел и к его сыну Олегу, за которым он мог удержаться и вследствие того, что вместе с Тьмутороканью он владел и «всей Хазарией» в Крыму, как это установил А. В. Соловьев. Выражение «Ольгова коганя хоти» мы рассматриваем как именит. пад. двойств. числа, относящийся к двум «пѣснотворцам» Святослава — Бояну и Ходыне. Учитывая, что Святослав несомненно именовался «каганом», а его сын мог унаследовать этот титул, находим возможным признать, что и «пѣснотворцы» Святослава при его дворе и на службе у его сына могли носить название «коганя». Так граффито Киевской Софии подтверждает определение Бояна в «Слове». Намереваясь строить свой рассказ «не по замышлению Бояню», автор «Слова» все же усвоил одну существенную сторону творчества «пѣснотворца»: он тоже решил вести повествование, «свивая славы оба полы сего времени», и заявил об этом во вступительной части: «Почнемъ же, братие, повѣсть сию отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря». Как бы ни решался спор о том, кого следует подразумевать под «старым Владимером» — Владимира Святославича (ум. в 1015 г.) или Владимира Мономаха (ум. в 1125 г.), важно то, что автор «Слова» вспоминает постоянно события прошлого — XI века, усобицы князей и кровопролитные битвы между ними, походы на половцев, сопоставляет «рати» прошлые с битвой «на Каяле» («То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицеи рати не слышано!»); призывая князей выступить «за обиду сего времени», прекратить усобицы, он ставит им в пример «того стараго Владимира», которого «нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ Киевскимъ», чьи «стязи» теперь в руках Рюрика и Давыда «розно ся... пашутъ». Эти частые переходы от настоящего к прошлому входят в самый художественный метод автора, и поэтому целые эпизоды, посвященные прошлому — «крамолам» и «усобицам» Олега Святославича — Гориславича — и мятежной жизни Всеслава Полоцкого, не могут рассматриваться как вставные, хотя, создавая их, автор, возможно, опирался на сложенные до него песни и предания об этих князьях. «Оба полы сего времени» в «Слове» сплетаются, сравниваются, и сопоставление их то предостерегает от тяжелых для Русской земли последствий усобиц, то напоминает о прошлых победах, когда многие народы, в том числе и половцы, «главы своя подклониша» под русские «мечи харалужные». Характеризуя поэтическую манеру Бояна («растѣкашется мыслию по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы», «летая умомъ подъ облакы»), автор имел в виду, конечно, не только образную поэтическую речь Бояна, но и то, что мы называем «художественным вымыслом», то, что Манассия у Гомера определил словами: «Инуду же много обращает и прелагает», а «мних Георгий Амартол» сурово назвал «лъжей». Автор «Слова» от такого «полета мысли» не отказался. Плач-заклинание Ярославны, беседа Игоря с рекой Донцом, диалог Кончака и Гзы о женитьбе «сокольца» — Владимира Игоревича — наиболее яркие примеры творческого домысливания автора. Вспомним покаянный внутренний монолог Игоря в летописной повести (Ипат. лет., 1185 г.), которым другой автор тоже «домыслил» исторический рассказ. Художественный вымысел автора «Слова» ближе к полету поэтической мысли Бояна, тогда как составитель летописной повести строит монолог Игоря на мотивах «слова о казнях божиих» и других произведений учительной литературы, убеждавшей в неизбежности наказания за грехи. Обращаясь к стилистике «Слова», мы также найдем в ней отзвуки песен Бояна. Опираясь на них, автор строит примерный зачин, которым Боян начал бы «пѣснь Игореви», и в этом зачине содержится та символика, которая потом на протяжении всей «повѣсти-пѣсни» будет применена автором. В зачине Бояна князья представлены в образе соколов, которых «буря занесе чресъ поля широкая». На этом образе построено горестное восклицание автора, напоминающего о том, что Игоря увезли далеко в плен: «О, далече заиде соколъ, птиць бья, — къ морю». Представление о князьях-соколах лежит и в основе описания русского войска, отдыхающего после первой удачной схватки: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло! Не было онъ обидѣ порождено ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръныи воронъ, поганыи Половчине!». Здесь образ князей-соколов сплетается с картиной соколиной охоты. Своеобразное применение эта картина находит в изображении Бояна, складывающего «пѣснь», где игра на гуслях представлена в виде охоты соколов на лебедей. Это нетрадиционное использование картины охоты с ловчей птицей-соколом побудило автора построить весь эпизод как развернутое трехчастное отрицательное сравнение. В зачине Бояна употреблена более обычная двухчастная формула отрицательного сравнения. Характерно, что автор «Слова», оттолкнувшись от народно-поэтического символа (сокол-юноша, он охотится за лебедью-девушкой), придал ему иное толкование, опираясь уже на литературный образ псалмопевца Давида, слагающего псалмы под аккомпанемент гуслей. В «Слове на воскресение Лазаря» этот образ дан в его прямом, а не переносном значении: «Удари, рече, Давыд в гусли и возложи прьсты своя на живыя струны». Образ князя-сокола снова появляется в описании бегства Игоря из плена, но здесь он уже дан в виде сравнения, а охота на птиц тоже не символическая, а действительная охота, добывающая птиц «завтроку, и обѣду, и ужинѣ». На эту охоту Игорь «полетѣ соколомъ подъ мьглами, избивая гуси и лебеди». И наконец на символе сокол-князь построена последняя беседа Кончака и Гзы. В зачине Бояна символ врагов — «галици», которые «стады бѣжать къ Дону Великому». Автор «Слова» предпочел более обычный символ врага: «чръныи воронъ, поганыи половчине» «Галици» в его повествовании — реальные птицы: рано утром перед битвой «говоръ галичь убуди»; на опустевшей во время княжеских усобиц пашне «галици свою рѣчь говоряхуть», а во время бегства Игоря, охраняя его, «галици помлъкоша». С поэтикой Бояна, а следовательно с устно-поэтической традицией, связано употребление двухчастной формулы отрицательного сравнения: «Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костьми Рускихъ сыновъ», «а не сорокы втроскоташа — на слѣду Игоревѣ ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ». Выше отмечено, что автор «Слова» включил в свой рассказ две «припѣвки» Бояна, первую оставив без изменения, ко второй добавив слова, прикрепляющие ее к событиям «сего времени». Из рассказа «Слова» видно, что Боян первую «припѣвку» отнес к судьбе Всеслава Полоцкого. Возможно, что события молодых лет жизни Всеслава (он умер стариком в 1101 г.) Боян отразил в своих песнях, тогда и сложил свою «припѣвку». Включая в литературное произведение эти нравоучительные изречения — «припѣвки», автор «Слова» выразил с их помощью оценку событий и их участников, как это делали древнерусские летописцы XI—XII вв., вводя в изложение и книжные изречения, и народные пословицы, которые во второй половине XII в. автор «Слова Даниила Заточника» назвал «мирскими притчами». Теми и другими обильно уснащена речь Даниила Заточника. Литература переводная Киевского периода познакомила русских читателей с громадным количеством нравоучительных изречений, собранных из самых разнообразных источников — из сочинений античных ученых, философов, поэтов, из Библии и из учительной христианской литературы. Многие из таких изречений перешли из книг в живую речь, сблизились с ритмически построенными народными пословицами (такая ритмичность ощущается в обеих «припѣвках» Бояна) и отсюда возвращались в литературу для выражения авторских оценок. Извлекая из текста «Слова» стилистические приемы, которые сам автор ощущал как свойственные «песням» Бояна, мы с полным правом относим их к устно-поэтической традиции. Однако полное определение всей устно-поэтической стилистики, использованной в «Слове», еще ждет тщательного исследования, так как для сопоставления мы не имеем материала старше XVII в., когда было записано (однако неизвестно, с какой точностью) некоторое количество песен, былин, пословиц. Записи XVIII в. и начала XIX в. сохранились в большем количестве, но и их полное совпадение с устным звучанием — под сомнением, во многих случаях устные тексты «правились» согласно представлениям издателей этих записей о «художественности». Таким образом, в распоряжении исследователя остается главным образом огромный материал в записях XIX—XX вв. Его не «правили» издатели, но ведь он сам пережил с XII в., когда какую-то его часть мог знать автор «Слова», немало изменений, отслоить которые с уверенностью мы не можем. Поэтому обычный способ выделения устно-поэтических приемов в «Слове» путем сравнения его стилистики с поздними записями фольклора не дает надежных результатов. До XVI в. включительно устная поэзия во всех слоях общества продолжала жить и в городе и в селе, хотя самый состав ее в чем-то уже различался. Социальный облик хранителей и создателей фольклора определял отбор из наследия прошлого и характер вновь создаваемого. В грамотной среде рядом с устной поэзией жила литература, и взаимодействие этих двух форм словесного искусства сказывалось и на литературной стилистике, и на устно-поэтической речи. Вот почему для установления исконной принадлежности тех или иных стилистических приемов устно-поэтической традиции следует искать иного пути исследования. Вероятно, прочные результаты дало бы сравнительное изучение народной поэзии всех славянских народов. Проведенное систематически, такое изучение выделило бы в записях XVII—XX вв. те поэтические приемы, которые имеют наиболее древнюю основу. Для определения устно-поэтических элементов в стилистике «Слова о полку Игореве», по-видимому, ценный материал могло бы дать изучение устной поэзии и живой речи карпатских лемков. По наблюдениям археологов и антропологов, население этой части западной Украины — потомки выходцев из Северской земли (принадлежавшей Ольговичам), которые двинулись в XIII в. на запад под натиском татаро-монгольского нашествия. Св. Гординський39 сообщает, что в языке карпатских лемков до сих пор сохраняются слова, древность которых подтверждается наличием их в литературных памятниках, несомненно принадлежащих Киевскому периоду. В числе этих архаизмов есть и слова, входящие в лексику «Слова о полку Игореве»: «паполома», «комонь», «болоне», «шелом», «черлений», «текти» (в значении «идти»), «рци» (в значении «мовляв», «кажи»), «смага». В группе «народно-поэтических формул», характерных для устной поэзии карпатских лемков, есть такие сочетания существительного с эпитетом-определением, которые встречаются и в «Слове», но не находят себе соответствия в литературных памятниках XI—XIII вв.: «молодий князь», «широке поле», «чорна земля», «камінна гора», «студена роса», «чорний ворон», «сіри вовк», «сизий орел», «буйний тур», «готові кони», «осідлані кони», «тисова кровать», «криваві рани», «чорна хмара», «криваво пиво» («кроваво вино» «Слова»). При определении устно-поэтических элементов «Слова» в их число относили нередко такие приемы, которые широко применялись и в литературном древнерусском языке с XI в. Так, сочетания однокоренных слов — «трубы трубятъ», «мосты мостити», «ни мыслию смыслити, ни думою сдумати», «успилъ ... грозныи ... грозою», «опуташа въ путины», — не могут рассматриваться как специфически устно-поэтические: самые разнообразные виды сочетаний однокоренных слов в древнерусском языке широко представлены во всех типах письменного языка — от деловых памятников до украшенной речи гимнографии и торжественного ораторства. Сочетание «трубы трубятъ» содержит однокоренные подлежащее и сказуемое. Сочетание «мосты мостити» относится к тому виду таких сочетаний, который определяется как «винительный внутреннего объекта с глаголами переходными»: «мыслию смыслити, думою сдумати» — «творительный тавтологический» «способа».40 Вариантами этого вида являются выражения «успил грозный грозою», а также «опуташа въ путины», где винительный с предлогом «въ» заменил более обычный в таком и аналогичных сочетаниях творительный. Синонимические пары с союзами «и», употребительные в фольклоре, знакомы и древнерусскому языку, поэтому выражения «свычая и обычая», «въ ты рати и въ ты плъкы», «туга и тоска» не могут рассматриваться как элементы устно-поэтической стилистики. Итак, на данном этапе исследования поэтики русского фольклора мы не имеем возможности полностью выделить в «Слове» все, что вошло в него из поэтического языка народной поэзии. Однако с значительной долей вероятности мы относим к нему те словосочетания «Слова», которым не находится соответствия в литературном языке XI—XIII вв., но прямые параллели к которым дают записи фольклорных произведений. Нерешенными, однако, остаются многие вопросы о связи стилистики «Слова» с устно-поэтической стилистикой. Такие, например, выражения, как «сине море», «красныя дѣвкы», очень редкие в литературе, возможно, уже в ту далекую эпоху проникли в литературный язык из устной поэзии. Неясным остается, где произошло сплетение книжной и устной земледельческой метафоры для изображения воинских картин, где для той же цели был создан образ битвы-пира, свадебного пира, в котором есть и устная символика, есть и отголоски библейского образа «смертной чаши». Выше мы указали, что устная поэзия оставила ясные следы не только в стилистике «Слова», но и в самом его жанре. Однако и здесь остается ряд нерешенных вопросов; мы очень мало знаем о том, как звучала причеть-плач в XII в., и совсем не знаем, что представлял собой плач-заклинание в жизни этого времени, а следовательно и не можем определить, на какую традицию опирался автор «Слова», создавая плач Ярославны. Проблема «Слово о полку Игореве и народная поэзия» пока еще больше ставится, чем прочно решается. * * * Если облик устной народной поэзии XI—XII вв. приходится предположительно восстанавливать, опираясь на слабые в общем отражения ее в литературе этого времени,41 и лишь гипотетически намечать, в чем сказались фольклорные традиции у автора «Слова о полку Игореве», то исследование проблемы отношения этого памятника к литературным традициям, предшествующим ему, современным и следующим за ним, строится на прочной основе: литературных памятников этого периода дошло до нас достаточно, чтобы судить о высоком уровне литературной культуры домонгольского периода. Часть этих памятников сохранилась даже в рукописях XI—XIII вв. (два Изборника Святослава 1073 и 1076 гг., Успенский сборник XII в. с сочинениями русских авторов и переводными, на грани XIII и XIV вв. переписанный текст Хроники Георгия Амартола, переведенной в середине XI в., русский список 1095—1097 гг. Минеи, дающий полное представление об украшенной стилистике византийской гимнографии в славянском переводе, и т. д.). Многочисленные исследователи — историки, литературоведы и лингвисты — изучали в разных аспектах связи «Слова» с этой литературой. И хотя мы не можем еще считать исчерпанным весь материал, содержащийся в этих источниках для характеристики того, как автор «Слова» пользовался традиционными представлениями и их стилистическим выражением, в чем он отступал от них, творчески развивая, однако уже и достигнутые результаты позволяют прийти к неоспоримому выводу: «Слово о полку Игореве» — литературное произведение. Этот вывод отменяет не только прямолинейное отнесение «Слова» к народной поэзии в статьях В. Г. Белинского: «Слово — прекрасный, благоухающий цветок славянской народной поэзии», «со стороны выражения, это — дикий полевой цветок, благоухающий, свежий и яркий».42 Наблюдения, которыми подтверждается определение «Слова» как литературного памятника, делают неоправданными и попытки представить дошедший до нас текст «Слова» поздней записью произведения, первоначально существовавшего в виде устной песни или «сказа». Летописи XI—XII вв. дали историкам и литературоведам богатый материал для характеристики исторических реалий «Слова». Итоги своих наблюдений над «историческим и политическим кругозором автора» Д. С. Лихачев подвел в следующем заключении: «Автор „Слова“ — человек широкой исторической осведомленности. Он внимательный читатель „Повести временных лет“ и вместе с тем наслышан в народной исторической поэзии. Он имеет свои отчетливые представления о русской истории, хотя эти представления и являются представлениями поэта, а не историка, при этом поэта XII столетия».43 Объединяя, как и Боян, «оба полы сего времени», автор «Слова» вспоминает события и князей XI в., но, «минуя всех князей первой половины XII в., упоминает только князей — своих современников».44 Это обстоятельство определило лаконизм некоторых сообщений автора о современных ему событиях. Обращаясь к читателям («братие»), автор уверен, что они тоже осведомлены об исторических фактах своего времени, и потому иногда заменяет конкретный рассказ поэтическим образом, передающим в обобщенном виде лишь оценку события или вызванное ими настроение. Так, автор, рассчитывая, что его читателям известно, как неодинаково задели набеги половцев, после поражения войск Игоря, разные области Русской земли, пишет: «А въстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми»; «се у Римъ кричатъ подъ саблями половецкыми, а Володимиръ подъ ранами» (см. подробнее ниже, стр. 119, 143). Знал читатель и о недавней победе Всеволода Суздальского над волжскими болгарами, поэтому для него понятен был гиперболический образ его могущества в призыве к Всеволоду: «Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти» (см. ниже, стр. 144). Среди граффито XI и XII вв. Киевской Софии есть несколько, фиксирующих те или иные события, называющих исторические имена. Сделанные современниками, эти записи опускают дату события или, назвав месяц и день, не сообщают год, пропускают отчество князя, хотя одноименных князей в данный период было несколько, не уточняют место, где произошло событие.45 Автор «Слова», надеясь также на осведомленность и память современников, в поэтическом образе давал иногда лишь намек, правда очень точный и раскрывающий главное в событии. Если летописные рассказы наряду с устными преданиями и песнями были источником исторических сведений автора «Слова» о событиях XI в., то летописный язык подтверждает полное соответствие феодальных формул и символов «Слова» понятиям и их словесному выражению XII в. Как отмечает исследовавший эту часть стилистики «Слова» Д. С. Лихачев, «вся терминология, все формулы, все символы подверглись в „Слове“ поэтической переработке, все они конкретизированы, образная сущность их подчеркнута, выявлена и все они в своей основе связаны с русской действительностью XII в. и все они в той или иной мере подчинены идейному содержанию произведения».46 Традиции феодального воинского стиля XII в. широко отражены и развиты в «Слове». Русское государство автор именует «Русская земля», места кочевий половцев — «поле Половецкое», «земля Половецкая», в соответствии с терминологией, установившейся в XII в. и закрепленной летописями. Но автор «Слова» — поэт, и официальное название Половецкой степи он иногда уточняет: «великая поля ... у Дону Великаго» — место схватки с половцами; «поле незнаемо среди земли Половецкыи» «на брезѣ быстрои Каялы», «поле безводно», где жажда «лучи съпряже» русским воинам, где погибли русские дружины. Д. С. Лихачев показал,47 что символическое значение оружия, коня, стяга в «Слове» повторяет их летописное осмысление и выражено часто в близкой к летописи словесной форме. Повторяются образы защиты и завоевания («отворить» и «затворить» ворота, «подклонить под меч», «потоптать полки»), названия княжеских междоусобий («крамолы», «усобицы», «котора», «лъжа»), формулы для обозначения прославления князей («пѣти славу», «пѣти пѣснь», «въспѣти») и т. д. Нельзя, однако, не заметить, что из воинской стилистики своего времени автор «Слова» отбирал такие выражения, которые своей образностью открывали путь к дальнейшему их художественному развитию (такой поэтической доработке подверглись, например, образы стяга поднятого и упавшего, летописное сравнение «стрелы идяху акы дождь» и т. д.). Индивидуальные выражения понятий о воинской чести, о долге воина-защитника «Русской земли» в «Слове» возникли на основе формул, принятых в литературе XI—XII вв. (воины ищут «себѣ чти, а князю славѣ», лучше «потяту быти, неже полонену быти»; князь бьется, «забывъ чти и живота и града Чернигова отня злата стола и своя милыя хоти, красныя Глѣбовны свычая и обычая» и т. д.). В соответствии с понятиями своего времени автор «Слова» определяет территорию по ее главной реке и цель похода поэтому выражает как желание «испити» из этой реки, если она течет по владениям врага. Так, в речи Игоря сочетания «позримъ синего Дону», «искусити Дону Великаго», «испити шеломомь Дону» и даже гиперболические выражения — «Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти» — все это то повторение, то свободное варьирование основного образа, известного и летописи: «Пил золотом шеломомь Дону». Цель похода в «Слове», как в летописи, не только завоевание, но прежде всего защита «Русской земли»: князья бьются «за землю Русскую», «за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святославлича». Все эти выражения — варианты летописных наказов князьям: «Постерези земле Руское», и обещания воинов: «За Русскую землю головы свое сложити», «не погубити Русскы земле», «мы умираем за Русскую землю» и т. п. Как летописцы, автор «Слова» расширяет обычное понимание слова «раны», определяя им поражение не только Игоря — «за раны Игоревы», но и всего его войска (ср. в летописи: «прогнаша их, давши им рану не малу»). В отличие от летописцев автор «Слова» придает слову «обида» смысл — оскорбление всей страны. В традиции воинского стиля, сложившегося в летописи еще в XI в., «Слово» показывает тревожные приметы, предупреждающие войско о неудачном конце похода, — солнечное затмение, беспокойство птиц и зверей, гроза в утро сражения. Наблюдения над воинской лексикой и фразеологией «Слова», наиболее полно проведенные Д. С. Лихачевым в указанной статье, свидетельствуют о том, что стилистика, выражающая феодально-военные представления, не была механически перенесена из летописей в «Слово». Так же, как летописцы XI—XII вв., автор «Слова» знал уже вошедшую в живой язык своего времени феодальную терминологию и символику и свободно ею пользовался, подобно тому как его современник, переводя «Историю Иудейской войны» Иосифа Флавия, легко находил русские эквиваленты для передачи соответствующих греческих выражений. Автор более поздней эпохи не мог бы с такой поэтической свободой дорабатывать эту стилистику, сохраняя точность ее применения. * * * В создании поэтической системы выражения в «Слове», кроме устной народной поэзии и воинской стилистики, выработанной в живом языке и литературно совершенствовавшейся летописцами, значительную роль играл опыт, накопленный к концу XII в. в обширной переводной византийско-болгарской и русской литературе исторических, повествовательных, религиозно-учительных жанров, в гимнографии и торжественном ораторстве. Характеризуя стилистический строй «Слова», исследователи не раз подчеркивали в нем элементы ораторской риторики. Наиболее подробно остановился на выделении этих элементов И. П. Еремин, определявший самый жанр «Слова» как «памятник политического красноречия» (см. выше, стр. 7—8). В связи с вопросом о риторичности стилистики «Слова» представляется небезынтересным сопоставить определения тропов и риторических фигур, с которыми русский книжник имел возможность познакомиться еще в XI в., с применяемыми автором «Слова» риторическими средствами. Всеми исследователями «Слова» отмечалась большая склонность автора к метафорическому способу выражения. Выше мы указывали, что для этого способа материал автору давала и устная поэзия, и выработанная уже своеобразная символика воинской стилистики. Но и все другие виды переводной и русской литературы XI—XII вв. практически учили метафорическому языку, широко применяемому, особенно в украшенном историческом, библейском, ораторском, гимнографическом стиле. С XI в. русскому книжнику известно было и теоретическое определение метафоры как одного из «творческих образов» — тропов и риторических фигур, которыми рекомендовалось украшать речь. В Изборнике Святослава 1073 г. содержится статья «Георьгия Хуровьска о образех» (лл. 237 об.—240 об.).48 «Творьчьстии образи суть 27», — пишет Георгий Херобоск и, поставив на первое место «инословие» — аллегорию, на втором дает подробное описание с примерами четырех разновидностей «превода» — метафоры, которую он определяет так: «Превод же есть слово от иного на ино преводимо. Имать же образы четыри: или бо от съдушьныих на несъдушьная преводиться; или от несъдушьныих на съдушьная; от съдушьныих убо на съдушьная ... от безъдушьныих же на бездушьная» (лл. 237 об.—238). В теоретических определениях тропов у Херобоска близко к «преводу»-метафоре стоит «лицетворение»: «Егда кто к бездушьныим акы к телеси другоици и словеса стрина (странна?) прилагаеть, яко же се: небеса исповедають славу божию» (л. 240). Однако выражение «море виде и бежа» статья рассматривает как «превод», поясняя, «еже бо видети о съдушьныих истовое глаголеться» (л. 238). Применение обоих этих тропов Херобоск рекомендует, говоря о предметах одушевленных и неодушевленных. Но практически в литературе XI—XII вв. они применялись и к отвлеченным понятиям, которые, конкретизируясь, превращались в одушевленные существа. С такими метафорами и олицетворениями мы встречаемся и в «Слове». Одним из факторов, способствовавших созданию метафорического языка «Слова о полку Игореве», были представления о человеке, формировавшиеся под воздействием «естественнонаучной» византийско-болгарской литературы. В изображении автора «Слова» Боян творил свои «пѣсни» о «старом времени», преодолевая и пространство и время «умомь»: он «летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы». Великий князь Всеволод из своей Суздальской земли, «издалеча» не хочет даже «мыслию прелетѣти... отня злата стола поблюсти». Обращаясь к князьям Роману Владимиро-Волынскому и Мстиславу Пересопницкому, автор говорит: «Храбрая мысль носитъ ваю умъ на дѣло». Обдумывая бегство, «Игорь мыслию поля мѣритъ отъ великаго Дону до малаго Донца». Сведения о мироздании древнерусский книжник приобретал из Шестоднева, где «слово шесьтааго дьне» повествовало о создании человека, особенно подробно описывая отличия человека от животных, постоянно подчеркивая, что только человек имеет «душу разумичну и съмыслену». Его «мысль высока» обходит «всю землю и выше небес» всходит; его «ум» пройдет «въздух и облакы минет, солнца и месяца и все поясы и звезды, етир же и вси небеса и том часе пакы в телесе своем обрящет. Кыма крылома възлете, кымь ли путемь прилете, не могу иследити» (л. 196—196об.).49 О превосходстве мысли над зрением предупреждает Шестоднев, рассказывая о сотворении небесных светил: «Луны убо не мозем очима мерити, нъ мыслию, яже велми паче очесу истиннейши есть на истинное изобретение» (л. 148). «Убогий человек» пытается даже «мерить мысльми божию силу», «измерила бо и е моя мысль, аще ли вышии е моеи мысли, и не доидет мои ум его» (л. 155 об.). Итак, «мысльми», «умом» можно облететь и измерить и землю и небеса, только «божию силу» мысль не способна измерить: не следует «хотети домыслити се человечами мысльми недоведимых мыслеи божиих» (л. 104 об.). Но зато «мыслию» можно «възити» «к богу невидимуему», «сквозе храм пролета ум и всю ту высость и небеса, скорее мъжения очнааго прилетев» (л. 199). Мысль летает быстрее взгляда — она видит и измеряет то, чего не видят «очеса». Ум выше тела: «Тело бо воин есть, а ум кнез и царь», и потому автор советует: «Мыслию пари ... на высость и разумное» (л. 212). Ум «бръзо и без некакого растояния приемле вещьное естество истинных», поэтому «ини от пръвыих философ око душевьное ум прозваше» (л. 217 об.). В Изборнике Святослава 1073 г. русский книжник нашел поучение под заглавием: «Немесия епискупа Емесьскааго от того еже о естьстве человечьсте», где он встретил те же суждения о силе человеческой мысли, преодолевающей пространство: «обилия пучины бо минуеть, небеса проходить мыслью, звездьная пошьствия и растояния и меры размышляеть» (л. 134 об.). Сходное суждение читаем в поучении «Златоустааго от того еже от 45 псалмоса»: «Ум человечьск въскоре бо объходить вьсу землю, небесьная же и подъземльная, нъ несуштиемь, тъчью же умьную мыслью» (л. 132). На этой оценке силы человеческой мысли строится поучение «Нусьскааго от оглашеника», где доказывается, что свет и «солнечное» тело, так же как божеское и человеческое в Христе неразделимы, и только человек «мыслию же разделив, познаеть естьстве» (л. 15). На фоне таких представлений о человеческом уме, о мысли созданные автором «Слова» метафорические образы ума и мысли, которые летают, мысли, способной уносить ум «на дѣло» или мерить поля, закономерны для XII века и не являются неожиданными для читателя того времени. Нельзя не отметить, что ни одна из этих четких и вполне обоснованных мировоззрением начитанного автора XII в. метафор не нашла отражения в «Задонщине». Слово «мысль» находим здесь только в таких явно испорченных сочетаниях: «Не проразимся мыслию но землями» (список ГБЛ, собр. Ундольского № 632), «но потрезвимься мысльми и землями» (список ГИМ, Музейское собр. № 2060). Устная народная поэзия подсказывала автору «Слова» стремление подчеркнуть связь природы с изображаемыми событиями, показать, что природа живет одной жизнью с героями, предупреждает об опасности, печалится в дни несчастья, охраняет и радуется счастливому исходу. Литературная теория поддерживала перенос «от съдушьныих на несъдушьная» способностей действовать, переживать свойственные человеку настроения. В соответствии с этим в «Слове» солнце «тьмою заступи путь» Игорю в несчастный поход; перед сражением «кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ»; «трава ничить жалощами», а дерево «съ тугою» клонится «къ земле»; Донец беседует с князем, «стережет» его, лелеет «князя на влънахъ», стелет ему «зелѣну траву», одевает его «теплыми мъглами». Примеры подобного типа метафор приведены ниже в комментарии к соответствующим местам текста «Слова». Такие примеры можно встретить уже в библейском языке, однако картины природы в метафорическом и символическом значении в религиозной литературе всех жанров служили по преимуществу для более наглядного изображения религиозных представлений, давали художественные средства для «похвал» божеству — создателю природы, по учению христианства. Современник автора «Слова» Кирилл Туровский в «Слове по пасце», представив весеннее оживление природы символом радости христиан, узнавших о воскресении Христа, в самом изображении весеннего пейзажа пользуется метафорическим языком: «Небеса исповедають славу господню» (по Херобоску, это даже не «превод»-метафора, а «лицетворение»), солнце «красуется и радуяся» светит, луна «честь подаваеть» солнцу. Прочную основу в литературе своего времени имел автор «Слова», когда он широко применил метафорический способ выражения к отвлеченным понятиям. Многочисленные примеры такой «метафорической конкретизации абстрактных понятий»50 проходят через весь текст «Слова». Рядом с метафорой «солнце тьмою путь заступаше» имеем параллельную с отвлеченным понятием: «жалость ему знамение заступи искусити Дону Великаго». В языке «Слова» «крамолу» можно «ковать», усобицы «сеять», «лжу убудить» или «усъпить»; обида «въстала»; «слава на судъ приведе», «зелену паполому постла», «в прадѣднюю славу» можно «звонить», славу можно «похытить», «поделить», из нее «выскочить». «Грозы» Ярослава «по землям текутъ», «печаль течетъ», тоска «разлияся по Русскои земли», «веселие пониче» и т. д. Подобные метафорические словосочетания имеют многочисленные параллели в разных жанрах литературы XI—XIII вв., в том числе и в историческом повествовании, к ней прибегал и русский переводчик Иосифа Флавия. Обращает на себя внимание, что метафоры «Слова», как и аналогичные им в литературе XI—XIII вв., выражены по преимуществу в глаголах и очень редко — в эпитетах: «сребренеи сѣдинѣ», «сребреныхъ брезѣхъ», «желѣзныхъ плъковъ», «живые струны». Метафоры «Слова» нередко превращаются в постоянные символы, и с их помощью создаются целые эпизоды — картины, метафорически-символический смысл которых сам автор раскрывает тем или иным конкретизирующим отдельным словом. Так, фраза «быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону Великаго» последними словами раскрывает не только метафору «грому великаго» — шума битвы, но и символический смысл всего предшествующего пейзажа: «Другаго дни велми рано ... чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии млънии», где «чръныя тучя» — половецкие войска, «4 солнца» — русские князья, возглавлявшие поход, «синии молнии» — блеск оружия. Поле последней схватки с половцами также представлено в метафорическом образе пашни, но на реальное значение этого образа автор сам наводит читателя не отдельным его толкованием, а введенными в образ, снимающими метафору словами: «Чръна земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровию польяна, тугою взыдоша по Рускои земли!». И другая метафора битва-пир строится тем же приемом внутреннего раскрытия: «Ту кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбрии Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую». Тем же способом раскрывается символический смысл речи бояр, толкующих сон Святослава: «Уже соколома крильца припѣшали поганыхъ саблями, а самою опуташа въ путины желѣзны», где слова «поганыхъ саблями» и определение «желѣзны» поясняют, что речь идет о пленении половцами русских князей. Затмение солнца, описанное автором в начале «Слова», дает материал для метафорически-символического изображения страшного поражения: «Темно бо бѣ въ 3 день: два солнца помѣркоста, оба багряная стлъпа погасоста и въ морѣ погрузиста, и съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ, тъмою ся поволокоста». Окончание картины выполнено уже вне этой метафоры: «И великое буиство подасть Хинови». Но и без этого окончания символ «два солнца» разъясняется тем, что два «молодая мѣсяца» названы по именам. Символический смысл описания битвы на Немиге подчеркивается самим автором: там «снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла». Яркие примеры подобного способа раскрытия метафор дает в XII в. Кирилл Туровский в «Слове по пасце».51 Сначала сопоставление радости христиан, празднующих день «воскресения Христова», с весенним расцветом природы строится в виде двух параллельных картин: «Ныне солнце красуяся к высоте въсходить и радуяся землю огреваеть, — взиде бо нам от гроба праведное солнце Христос и вся верующая ему спасаеть». После шести построенных таким способом сопоставлений весенней природы с историей христианства автор вводит раскрытые им самим метафорические образы: «Ныня ратаи слова словесныя уньца к духовному ярму приводяще и крестное рало в мысьленых браздах погружающе и бразду покаяния прочертающе, семя духовное всыпающе, надежами будущих благ веселяться». В этом эпизоде определения раскрывают смысл земледельческих метафор. Тот же прием повторен в следующих трех метафорических картинках, где использованы образы «рыбарей» на «ловитве» рыбы, «трудолюбивой бчелы», «на цветы възлетающей», и «доброгласных птиц». Аналогичным примером в Повести временных лет (Лавр. лет., 1037 г.) строится похвала книгам: «Се бо суть рекы, напаяюще вселеную, се бо суть исходищя мудрости, книгам бо есть неищетная глубина». Но там же похвала Ярославу составлена из двух параллельных частей, связь между которыми автор раскрывает сам: «Яко же се бо некто землю разореть, другый же насееть, ини же пожинають и ядять пищю бескудну, — тако и сь. Отец бо сего Володимер землю взора, и умягчи, рекше крещеньемь просветив. Сь же насея книжными словесы сердца верных людей; а мы пожинаем, ученье приемлюще книжное». Автор «Слова» однажды прибег к такому истолкованию образа, представляя Бояна во время исполнения им «пѣсни»: «Тогда пущашеть 10 соколовь на стадо лебедѣи: которыи дотечаше, та преди пѣснь пояше», но эта картина охоты с соколом переводится в другой план указанием на темы песен: «...старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пълкы Касожьскыми, красному Романови Святъславличю». Не довольствуясь этим сообщением, автор уточняет дальше смысл каждого члена метафорического образа охоты, как это делает и Кирилл Туровский, вводя лишь отрицание «не» и тем самым приближаясь к устно-поэтическому типу отрицательного сравнения: «Боянъ же, братие, не 10 соколовь на стадо лебедѣи пущаше, нъ своя вѣщиа пръсты на живая струны въскладаше; они же сами княземъ славу рокотаху». Возможно, что к такому обстоятельному объяснению метафорического образа охоты автор прибег потому, что сам этот образ применен им не в обычном значении, употребленном им, — сокол-князь, птицы-враги, которых он бьет (ср.: «О, далече заиде соколъ, птиць бья, — къ морю»), а для картинного изображения игры Бояна на гуслях. Характерной чертой всех развернутых метафорических образов «Слова», в построении которых оно обычно идет, как видно из приведенных литературных параллелей к ним, по пути, знакомому литературе XII в., является то, что они органически связаны с применением тех же образов в их прямом конкретном значении. Пейзажи «Слова», свободно переходящие в символически-метафорический план, помогают оттенить настроение, создаваемое у читателя описанием событий, они как бы вводят жизнь природы в ход этих исторических событий. Природа в «Слове» активно участвует в развитии действия, притом на стороне русских воинов. Она предупреждает их о грозящей опасности, хмурится в ожидании поражения, жалеет тех, кто проиграл битву, помогает бегущим из плена, радуется их возвращению на Русскую землю. Природа «Слова» не подчиняет себе человека, хотя и пытается грозными «знамениями» предостеречь его. Из летописи мы знаем, что солнечное затмение действительно произошло перед неудачным походом молодых князей, и там оно истолковано, согласно библейской традиции, как свыше посланное «знамение». В «Слове» солнечное затмение входит в лирическое вступление, настраивающее на печальный исход дальнейших событий, рядом с другими грозными явлениями; вся природа насторожилась, когда войска двинулись в путь: ночь стонет грозой, будит птиц, волки собрались в оврагах, орлы клекчут, лисицы «брешутъ на чръленыя щиты». Весь этот пейзаж, как и описание раннего утра перед началом битвы, лишен метафорического подтекста. Но, как выше показано, мотив солнечного затмения в метафорическом значении войдет затем в истолкование сна Святослава. Описание утра «другаго дни» также приобрело символический смысл, а не только лирически окрасило картину тяжелого боя. Итак, пейзажи в «Слове» выполняют разные функции: одни подчеркивают трагическую или — в конце повествования — радостную окраску изображаемых событий, другие придают наглядность рассказу об этих событиях, приближают к читателю воинские картины, представляя их в образах пашни, жатвы, соколиной охоты, свадебного пира. Пейзажем для этой второй цели широко воспользовался современник автора «Слова» — Кирилл Туровский. Из его «Слова по пасце» можно извлечь широкую картину весеннего пробуждения природы: «Ныне небеса просветишася, темных облак яко вретища съвьлекъше и светлымь въздухом славу господню исповедають ... Ныне солнце красуяся к высоте въсходить, и радуяся землю огреваеть ... Ныня луна с вышняго съступивши степени болшему светилу честь подаваеть ... Днесь весна красуеться, оживляющи земное естьство ... Ныня новоражаеми агньци и уньци быстро путь перуще скачють и скоро к матерем възвращающеся веселяться, да и пастыри свиряюще веселиемь Христа славять ... Ныня древа леторасли испущають и цветы благоухания процвитають и се уже огради сладъку подавають воню и делатели, с надежею тружающеся, плододавца Христа призывають».52 С большим мастерством Кирилл Туровский переводит каждый из элементов этой широкой картины на язык евангельского рассказа о воскресении Христа и повествования о распространении христианства. Но и само описание признаков весеннего оживления природы свидетельствует о наблюдательности и литературном вкусе писателя-монаха, казалось бы далекого от забот «делателей» — земледельцев, «рыбарей», пчеловодов. Епископ Туровский не только почуял «светлый воздух» весны, увидел «новоражаемых агньцев», бегущих к матерям, и услышал благоухание весенних цветов, но и ввел в богословское по теме сочинение художественный образ земной весны, воспользовавшись им для более наглядного, а следовательно и более убедительного разъяснения чисто богословских вопросов. С автором «Слова» его сблизило это обращение к пейзажу, который он также умело выбрал и с точки зрения его лирического — радостного настроения, и обращение к человеческому труду, образы которого придали наглядность рассказу христианской легенды. В русской литературе XII в. описания природы вне символического или метафорического их истолкования мы встретим у игумена Даниила, который наравне с «святынями» Палестины уделил внимание во время путешествия и природе ее. Его описания деловиты, конкретны и лишь изредка прерываются замечаниями, в которых раскрывается впечатление, произведенное на него именно местностью. Так, близ «Асколоня град» он отметил «горы каменные» — «пусто место», где путников охватывала «боязнь велика» и где «путь тяжек и страшен зело». Зато плодородие земли около Иерусалима, обилие на ней «овощных древес многоплодовитых» восхищает его и наводит на мысль, что все это растет «благословением божиим». Путь к Иордану снова вызывает в Данииле чувство страха: песок, зной, «жажа водная», «дух зноен и смердящ» от Содомского моря, который «зноит и попаляет всю землю ту», — вот что заметил здесь путешественник. И опять настроение у Даниила меняется, когда он подходит к Иордану: ему приходит на память родная черниговская река Сновь, с которой он сравнивает и быстрое извилистое — «лукаво» течение, и глубину и ширину Иордана, и крутые берега, и особую сладость воды — «несть сыти пиюще воду ту святую, ни с нея болеть, ни пакости во чреве человеку». Растительность на берегу Иордана тоже вызывает у него сравнение с «нашей лозой».53 Так на всем пути Даниил подмечает особенности местной природы, а в памяти у него встает свой русский пейзаж, проявляется интерес человека из земледельческой «Русской земли», который знает и радость хорошего урожая, и горе засухи, уничтожившей его. У автора «Слова» картины природы — это обстановка, в которой развертываются трагические события похода Игоря; у Даниила описания природы — фон, на котором шаг за шагом напоминается евангельская легенда о жизни Христа. Сходство обоих авторов в том, что они умели видеть природу и подмечать в ней главное. Акад. А. С. Орлов извлек из текста «Слова» конкретные черты степи («поля чистого», «земли Половецкой»), в которую углубились русские войска: яруги, холмы («шеломени»), реки, болота и т. д., на которых росли степные травы, паслись стада.54 Так и из «Хоженья» Даниила можно узнать все основные признаки палестинского пейзажа, познакомиться с растительностью и животным миром этого края. Но разница между двумя писателями заключается в том, что первый — поэт и природа для него источник вдохновения и материал для создания поэтических образов, тогда как задача игумена Даниила — дать читателям такое конкретное представление о Палестине, которое заменило бы для них самое путешествие туда. Напомним, что и в «Истории Иудейской войны» Иосифа Флавия иногда в рассказ о событиях вплетается описание обстановки, в какой происходит действие, однако в поэтическую стилистику элементы этих описаний не превращаются. Богатство и красоту Русской земли «светло светлой и украсно украшенной» показал с помощью пейзажа автор «Слова о погибели Русской земли», только эпитетами обнаруживший свое эмоциональное отношение к русской природе и назвавший все перечисленные им признаки ее «красотами»: «горами крутыми, холми высокыми, дубравами частыми, польми дивными».55 Таким образом, наличие в «Слове» и символически-метафорического и конкретного пейзажа находит себе соответствие в памятниках русской литературы XII в. и продолжение в произведении первой половины XIII в. В своем чутком отношении к природе и в способности выразить вызываемые ею настроения ближе всех автор «Слова» к Кириллу Туровскому. И вне прямого метафорического способа раскрытия темы Кирилл Туровский в торжественном ораторстве иногда как бы перекликается с автором «Слова», оттеняя настроения, вызываемые воспоминаниями о евангельских событиях, посредством сопоставления их с переживаниями человека в семейной жизни. Автор «Слова» подчеркнул мужество Всеволода Святославича, введя в его героическую характеристику интимно личный мотив: молодой князь сражается, «забыв» не только «чти и живота», но и «своя милыя хоти, красныя Глѣбовны, свычая и обычая». После поражения Игоря тоскует вся Русская земля, тужит Киев, стонет «напастьми» Чернигов, и «жены русския» в трогательном плаче изливают скорбь по убитым мужьям. Призывы к князьям выступить «за землю Русскую» переходят в мольбы Ярославны, обращенные к стихиям природы, вернуть ее «ладу» из плена. Кирилл Туровский «слово на светоносный день воскресения Христова» начинает своеобразным вступлением — сценкой из семейной жизни, чтобы подготовить читателя к рассказу о том, как «скорбь», навеянная воспоминаниями о распятии и смерти Христа, сменяется радостью, вызванной вестью о его воскресении: «Отшедшю бо мужеви в путь далече, жена, скорбьна бывши, детем претить; пришедшю же мужю внезапу, жена веселье неисповедимо приемлет, и дети радостию ликоствують, паче естества обогащаеми».56 Автор не пытается здесь раскрывать переносный смысл каждого слова, как он делал это в «Слове по пасце». Он уподобляет лишь настроения, и для большей убедительности такого смелого сопоставления изображает семейную радость преувеличенно: «веселье» жены «неисповедимо», а дети радуются «паче естества обогащаеми». «Слово» также прибегает к гиперболе, которую Георгий Херобоск называет «лихоречье» или «лихновьное», поясняя: «есть речь — лишиши истины въздраштения ради, яко же се кто скоро риштуштааго рече, яко риштеть акы ветр» (Изборник Святослава 1073 г., лл. 239 об.—240). В призывах к князьям выступить «за землю Рускую, за раны Игоревы» автор гиперболически изображает могущество, воинскую силу выдающихся князей своего времени. Всеволод Юрьевич Суздальский, по словам автора, может «Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти». Гиперболический образ победы, одержанной Всеволодом незадолго до похода Игоря, вызывает с такой же силой выраженный образ победы над половцами «за обиду сего времени». Портрет Ярослава Осмомысла нарисован теми же ярко преувеличенными красками: он «подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плъки», «меча бремены чрезъ облаки». Сказочно-эпическое преувеличение формирует рассказ о Всеславе Полоцком, который за одну ночь из Киева «дорискаше» до Тьмутороканя, в Киеве слышал звон полоцких колоколов — и все-таки не миновал «суда божия». Так, в этом эпизоде гипербола помогает доказать, что даже и «вѣща душа въ дръзѣ тѣлѣ», наделенном необыкновенными способностями, не спасает от расплаты: Всеслав «часто бѣды страдаше». Но в рассказе о главных событиях — о сборе в поход, о двух сражениях — автор избегает какого бы то ни было преувеличения. Может быть, только количество захваченных в первом набеге сокровищ несколько преувеличено; вряд ли в действительности воины так пренебрежительно отнеслись к ним, что «начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ» драгоценными тканями и «всякыми узорочьи». Преувеличение характерно для многих речей в повествовании Иосифа Флавия. Иосиф, плененный римлянами, обращается к Веспасиану с просьбой не отправлять его к Нерону: «Ты бо еси владыка не токмо и зде, но всеи земли, и морю, и всему роду человечьскому».57 Веспасиан, вдохновляя своих воинов, внушает им: «Наших бо рук ничто же не утече от всея вселеныя»58 и т. п. Гиперболически представлена особая сила воды в Ерихонском колодце: «Аще и капля (этой воды) уканеть на месте, но ползуеть паче одождимаго беспрестани».59 Плодородие местности вокруг Ерихона описано подробно, и автор заключает его: «Аще же кто наречет место то божественыи раи, и то не въгрешить в место правды».60 Во время осады Иерусалима в «олтаре» «кровь стояше ... акы озеро»61 и т. д. «Слово» применяет «лицетворение» не только к «бездушьныим», как рекомендует Херобоск, но и к отвлеченным понятиям. Так возникают зримые образы «дѣвы Обиды», плещущей «лебедиными крылы», «кличущей Карны» и «Жли» (Жели), с «пламяным» рогом, «мычущей смагу». Литература XI—XIII вв. не дает параллелей к этим олицетворенным образам. По-видимому, материал для их создания кроется в фольклоре русском и восточном,62 но нам важно отметить, что среди «творческих образов», перечисленных в статье Херобоска, «лицетворение» признавалось как элемент литературной стилистики. Среди риторических фигур у Херобоска названо на десятом месте «сътвреное»: «Есть слово глаголемо не по чесому, от него же глаголеться по подобию, яко же се егда кто с гневъмь и с яростию възираеть, глаголем акы льв възирае на мя оньсица» (Изборник Святослава 1073 г., л. 239). Так, в «Слове» быстрый бег вызывает «по подобию» представление о бегущем «сѣром волке» (хотя само словосочетание идет, видимо, от устной традиции): после разгрома половецких веж «Гзакъ бѣжитъ сѣрымъ влъкомъ», Всеслав «скочи ... лютымъ звѣремъ», Игорь «скочи ... босымъ влъкомъ», «Влуръ влъкомъ потече». Быстроту движения бегущего из плена Игоря выражают также «по подобию» сопоставления: «поскочи горнастаемъ ... бѣлымъ гоголемъ ... полетѣ соколомъ...». Херобоск предлагает в качестве риторического приема «выимениместьство» (так переведено греч. «антономасиа»): «...да не речем истааго имени, нъ от сълучивъшиихся». В «Слове» эпитет Всеволода Святославича — «Буй Тур Всеволод» — заменяет в дальнейшем тексте его имя: «камо Туръ поскочяше», «уже бо ста Туръ на борони». Одна из риторических фигур Херобоска объясняет в «Слове» необычное словосочетание: «крычатъ тѣлѣгы ... рци, лебеди роспущени». Девятая фигура — «имятворение» — определяется так: «Есть речь по подражанию и по подобию некоему незнаменаемууму бывъши, яко же се егда къто несъгласьныя тъпъты гласы наричеть» (Изборник Святослава 1073 г., л. 238 об.). Статья Херобоска, основанная на правилах античных риторик, с примерами из церковнославянского языка, рекомендовала тем самым применение этих правил в литературной практике всех, кто пользуется выразительными средствами этого языка. Его лексическое и синтаксическое богатство открывало широкие возможности для создания подобных тропов и риторических фигур. Автор «Слова» использовал для этого также выразительные средства живого русского языка и его устно-поэтического варианта. * * * Явно ритмический строй «Слова» создается иногда синтаксической симметрией соединяющихся в эпизодах предложений, например: «земля тутнетъ, рѣкы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ, стязи глаголютъ ... летятъ стрѣлы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы, трещатъ копиа харалужныя ... ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати, а злата и сребра ни мало того потрепати». Особенно выделяется симметричностью построения характеристика воинов-курян, звучащая почти как стих: «Подъ трубами повити, подъ шеломы възлелѣяны, конець копия въскръмлени, пути имь вѣдоми, яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени». Возникает вопрос: была ли для читателя необычной такая конструкция речи? Обращаемся к Изборнику Святослава 1076 г., в который вошли самые популярные в течение всего средневековья поучения на темы личной и общественной морали. Эти поучения состоят из ряда наставлений, приобретающих форму афоризмов, часть которых вошла в язык и со временем превратилась в народные пословицы. Нередко группы таких наставлений объединяются синтаксической симметрией: «Въстени акы мытарь, прибегни акы блудьныи, умили ся акы Ахаав, плачи ся акы Петр, зови акы ханааныни, предъстои яко въдовиця, моли ся акы Иезекия» (л. 50 об.—51);63 «алчьнааго накърми ... жадьнааго напои, страньна въведи, больна присети, к тьмьници доиди» (л. 11); вариант этого наставления составляет ряд более сложных синтаксически, но также симметрически построенных предложений: «Аште бо насытил ся еси пиштею, накърми альчьнааго, напил ли ся еси, напои жадьнааго; и съгрел ли ся еси, съгреи трясуштааго ся зимою; в храме ли красьне и высоце възлежиши, въведи скытаюштааго ся по улицам в дом свои; възвеселил ли ся еси на тряпезе, обесели и скърбяштааго; обрадовал ли ся о чемь, обрадуи и сетуюштааго; почьстиша ли тя яко богата, почьсти и ты убогыя; весело ли ступаеши по степеньм от князя исходя, сътвори да в дому твоемь скърбяште не ходять» (лл. 19 об.—20 об.); «очисти тело постъмь, истреби жаждею, украси съмерениемь, накади благоуханьною молитвою» (л. 35 об.); «на небеси прославлени и по земли хвалими и на помошть призываеми» (л. 38 об.) и т. д. Многочисленные примеры ритмической речи такого типа дает гимнография в русском списке Минеи 1095—1097 гг. Напомню «плач Адама» из Триоди по списку XII в. (рукопись собр. Погодина № 41, ГПБ): «Раю святыи, мене ради насажен, Евгы ради заключен ... Раю всечестныи, красная доброто, богоздано селение, веселие непостижимое и наслажение» (лл. 1, 2 об.). Синтаксическая симметрия ритмизирует плач Глеба в «Сказании о убиении Бориса и Глеба»: «...не пожьнете мене от жития не съзьрела, не пожьнете класа не уже съзьревъша, нъ млеко безълобия носяща, не порежете лозы не до коньца въздрастъша, а плод имуща».64 Ритмична речь Даниила Заточника и тогда, когда он опирается на книжную «мудрость», и тогда, когда переходит на язык «мирских притч», причем ритм организуется сходством синтаксической конструкции фраз. В русском торжественном ораторстве ритмичность такого рода ясно ощутима уже в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона: «...не к неведущим бо пишет, но преизлиха насыщьшемся сладости книжныа, не к врагом божиим иноверным, но самем сыном его, не к странным, но к наследником небесного царствия». На таком ритме строится сопоставление в Христе двух начал — божеского и человеческого: «...яко человек повився в пелены, и яко бог звездою влъхвы вождаше; яко человек в яслех вълеже, и яко бог от влъхв дары и поклон прият; яко человек бежааше в Египет, и яко богу рукотворенаа египетскаа поклонишася»65 и т. д. В этом ритме ведется противопоставление Ветхого завета Новому и прославление Владимира, Ярослава и приобщенной к христианству Русской земли. Кирилл Туровский по-своему развил ту же тему двух начал в Христе и придал изложению ритмический строй: «...яко человек воспив испусти дух, но яко бог землею потрясе ... яко человек в ребра прободен бысть, но яко бог завесу первяго закона полъма раздра» и т. д. («Слово на святую пасху»).66 Синтаксический ритм наиболее отчетливо проявляется у Кирилла Туровского в лирических эпизодах его «слов» — в «плачах» и «похвалах». В лирических эпизодах Повести временных лет (Лавр. лет. под 1093 г.) можно услышать такой же ритм в описании страданий русских пленников у половцев: «...зимою оцепляеми, в алчи и в жажи и в беде, опустневши лици, почерневше телесы...»; «Кого бо тако бог любить, яко же ны взлюбил есть? Кого тако почел есть, яко же ны прославил есть и възнесл?». В «Слове о казнях божиих» под тем же годом речь также иногда становится ритмичной: «Сего ради вселеная предасться, сего ради гнев простреся, сего ради земля мучена бысть: ови ведуться полонени, друзии посекаеми бывають, друзии на месть даеми бывають ... прославлени бывше, не прославихом; почтени бывше, не почтохом; освятившеся, не разумехом; куплени бывше, не поработахом; породивъшеся, не яко отца постыдехомся». Примеры обращения разных жанров переводной и русской литературы XI—XII вв. к ритмичной речи, основанной на синтаксической симметрии, показывают, что ритмичный строй «Слова о полку Игореве» закономерен для конца XII в. И если в отдельных случаях ритм идет в нем несомненно от устной поэзии («Не буря соколы занесе ... галици стады бѣжать», «не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костьми» и т. п.), то синтаксическая симметрия, известная в поздних записях песенного фольклора и, возможно, существовавшая в эпических и лирических песнях XI—XII вв., в то же время находила опору и в литературе. Создавая литературное «слово-песнь», автор не отходил от книжной традиции, широко используя приемы ритмического повествования. * * * Подводя итоги наблюдениям над элементами, из которых слагалась поэтическая система «Слова о полку Игореве», мы приходим к заключению, что и его жанровая природа, и отдельные тропы, и ритмичность речи связаны с обеими традициями словесного искусства XI—XII вв. — фольклорной и литературной. То, что представлялось исследователям «необычным» для писателя конца XII в. — смешанный, «неопределенный» жанр, объединивший признаки книжного «политического» ораторства, лирического повествования об исторических событиях и народных «слав» и «плачей», размышления о способе изложения, сложные метафоры, художественно изображающие способности ума, мысли человека, — все это нашло опору в литературе XI—XII вв. и получило дальнейшее развитие в литературе первой половины XIII в. Автор «Слова» глубоко овладел всеми средствами художественного воплощения историко-публицистического, лирически окрашенного содержания, какие представляла ему литературная культура его времени. Отчетливо осознавая отличия поэтики Бояна, автор органически слил в своем творчестве обе поэтические системы, развил достижения каждой из них. Он не нарушил закономерностей общего хода развития русской литературы. Глубине его общественно-политической мысли, народности оценки событий и их участников соответствует творческое повышение изобразительности художественных средств, отобранных им и из поэтической речи народа, и из накопленного словесного богатства византийско-болгарской и русской литературы. Автор «Слова» прочно связан с этой почвой, он питается ею, и все же он опережает писателей своей эпохи так же, как опередил позднее Пушкин своих современников. Поэтическое дарование автора — вот единственная сила, поднявшая «Слово о полку Игореве» над всей окружавшей его литературой так высоко, что оно и в наши дни продолжает активно участвовать в жизни советского и зарубежного словесного и изобразительного искусства.
II
Изучение самого словарного материала, из которого создана поэтическая стилистика «Слова о полку Игореве», уже в конце прошлого века привело к постановке задачи составления полного словаря этого памятника. Трехтомный труд Е. В. Барсова «Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси» (М., 1889) наметил широкую программу изучения «лексикологии» «Слова» и довел лексический комментарий до слова «мя». Начатую Е. В. Барсовым работу продолжают до сих пор, но по-прежнему уделяя основное внимание лексике, а не словосочетаниям. В 1920-е годы вышел цикл работ акад. В. Н. Перетца, в которых рассматриваются отношения лексики и фразеологии «Слова» к стилистике библейских книг; знакомство с ними читателей домонгольского периода подтверждается их списками XI—XIII вв. или подборкой избранных отрывков в старших текстах Паремийника. В. Н. Перетцем проведено было также сопоставление «Слова» с «Историей Иудейской войны» Иосифа Флавия в русском переводе XII в., сделана сводка наблюдений предшественников, дополненная материалом, извлеченным самим исследователем из летописных и литературных памятников. Так сложился комментарий к «Слову» в его монографии 1926 г. Во всех этих работах В. Н. Перетца четко сформулировано основное требование к подобного рода исследованиям: выбирать для комментирования стилистики «Слова» прежде всего те памятники, в которых представлены разные типы литературного и делового языка домонгольского времени. Особенно тщательно этот принцип проведен при сопоставлении «Слова» с языком библейских текстов догеннадиевского периода.67 Когда мы устанавливаем среди элементов «высокого стиля» «Слова» отражения библейской стилистики, следует учитывать, что в литературный язык XII в. она входила не только непосредственно через обращавшиеся в это время отдельные списки или собранные в Паремийнике отрывки. В переведенную на Руси Хронику Георгия Амартола также вошли выдержки, а иногда пересказы эпизодов и из тех частей Библии (особенно ветхозаветных), которых в полном виде древнерусская письменность не имела до конца XV в. Цитировали часто Библию и те византийские произведения «отцов церкви», которые в южнославянских переводах были широко известны в домонгольский период. Таким образом, библейская стилистика впитывалась литературным языком и прямо через библейские книги, и через посредство многочисленных отражений ее в византийском и южнославянском учительном и торжественном ораторстве, в гимнографии, в таких естественно-исторических сочинениях, как Шестоднев, Физиолог. Вся эта литература не только обогащала русский литературный язык с XI в. своим способом выражения, но она наравне с Пчелой закрепляла в памяти читателей библейские афоризмы, которыми авторы подтверждали свои мысли. Этим объясняется и то, что русские писатели с XI в. также опираются на авторитет библейских книг, и то, что даже на фразеологии светской литературы отражается стилистика Библии. Сводкой параллелей к «Слову», опубликованной в монографии В. Н. Перетца 1926 г., продолжали пользоваться исследователи и в 1940—1950-е годы, дополняя их своими наблюдениями. В полемике с А. Мазоном, искавшим аналогии, а то и прямые источники фразеологии «Слова» в литературе XVIII в., притом не только русской, ряд интересных стилистических материалов привели Н. К. Гудзий68 и Р. О. Якобсон (в коллективном труде американских филологов 1948 г.).69 Обобщение той части наблюдений, которая относится преимущественно к «воинской» фразеологии «Слова», привело Д. С. Лихачева к выводу о связи многих образов памятника с «феодальными, географическими и тому подобными терминами своего времени, обычаями, формулами и символами эпохи феодальной раздробленности».70 Ценные наблюдения над некоторыми синтаксическими чертами в языке «Слова», свидетельствующими о том, что оригинал Мусин-Пушкинского списка относился к домонгольскому периоду, содержатся в исследовании акад. С. П. Обнорского «Очерки по истории русского литературного языка старшего периода» (М. — Л., 1946). В 1965 и 1967 гг. вышли первые два выпуска «Словаря-справочника „Слова о полку Игореве“», издаваемого Институтом русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР.71 В 1966 г. Т. Чижевская за рубежом выпустила полный словарь, дающий к лексике «Слова» комментарий, состоящий из двух частей: первый раздел параллелей составляют цитаты из «Задонщины», второй — из памятников старшего периода или, когда в них соответствующий материал отсутствует, то из текстов более поздних или из народной поэзии.72 Обе последние словарные работы по самому своему типу ограничивают задачу комментированием именно лексики «Слова». Между тем назрела необходимость сосредоточить внимание прежде всего на фразеологии этого памятника: показать, что весь словесный материал, из которого построено «Слово», при всем его художественном своеобразии, вполне соответствует тому способу выражения, который зафиксирован в разных типах книжного и народного письменного языка домонгольского времени, в разных литературных и деловых жанрах. Для такого рода исследования недостаточно уже показать, что отдельные лексемы «Слова» существовали в языке XI—XIII вв.: на первый план выступает изучение их сочетаний. Именно поэтому параллелями к «Слову» могут служить не только прямые соответствия, но и аналогичные по конструкции, по самому художественному замыслу выражения. Значительный материал для выполнения именно этой задачи дает работа Д. С. Лихачева, характеризующая воинскую стилистику «Слова». Частично некоторые фразеологические параллели к «Слову» могут быть извлечены и из исследований конца XIX — первой половины XX в. Но задача систематического изучения словосочетаний нашего памятника во всем их объеме, на фоне той разнообразной литературы, по которой мы судим и о мировоззрении человека XII в., и о способах словесного его выражения, еще не ставилась. Эта задача может быть решена лишь общими усилиями литературоведов и историков русского языка, чья помощь особенно необходима при исследовании синтаксических конструкций «Слова», выполняющих определенную стилистическую функцию в поэтическом языке автора. Стилистический комментарий к «Слову» — это отнюдь не определение «источников», какими будто бы прямо пользовался автор. Конечная цель такого комментария — представить, насколько свободно владел этот автор всеми средствами древнерусской речи, как умело и целесообразно он отбирал из ее богатств наиболее подходящие способы выражения для каждого из элементов сложного содержания своего произведения, как органично слил он их в своем действительно неповторимом индивидуальном стиле. Стилистические параллели к лексике и словосочетаниям «Слова» показывают, как прочно они связаны со всеми типами литературного и живого языка XI—XII вв. — от делового до устно-поэтического. Элементы каждой из разновидностей языка этого времени использованы им строго в соответствии с характером передаваемого содержания, оттого стиль «Слова» не оставляет впечатления пестрой механической смеси разнохарактерных составных частей — в нем все в точности отвечает стоящей перед автором задаче. Так свободно сплетал и близкий к нему по времени переводчик «Истории» Иосифа Флавия средства разных типов литературного языка для передачи сложного содержания оригинала. Рядом с этим переводчиком и автор «Слова о полку Игореве» именно как мастер художественного слова, овладевший всем богатством книжного и живого языка своего времени, не представляется «необъяснимым», каким пытаются изобразить его «скептики». Настоящая работа, используя материал, накопленный исследователями, и дополняя его, призывает продолжить поиски фразеологических соответствий и аналогий к «Слову», которые еще прочнее свяжут этот памятник с литературной культурой своего времени.
Примечания
1 А. С. Пушкин. О ничтожестве литературы русской. — А. С. Пушкин, Полное собрание сочинений в десяти томах, т. VII, 2-е изд., М. — Л., 1958, стр. 307. 2 А. С. Пушкин. Наброски статьи о русской литературе. — Там же, стр. 226. 3 В. М. Истрин. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. II. Пгр., 1922, стр. 415. 4 Н. А. Мещерский. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М. — Л., 1958, стр. 121. 5 Н. Н. Воронин. Даниил Заточник. — В кн.: Древнерусская литература и ее связи с новым временем. М., 1967, стр. 54. 6 Д. С. Лихачев. Социальные основы стиля «Моления» Даниила Заточника. — ТОДРЛ, т. X. 1954, стр. 109. 7 И. П. Еремин. Слово о полку Игореве. (К вопросу о его жанровой природе). — Ученые записки ЛГУ, № 72, Серия филологических наук, вып. 9, Л., 1944, стр. 3—18. Под заглавием «Жанровая природа „Слова о полку Игореве“» статья перепечатана в книге: И. П. Еремин. Литература древней Руси. М. — Л., 1966, стр. 144—163. 8 Слово о полку Игореве. Сборник исследований и статей, М. — Л., 1950, стр. 93—129. 9 Там же, стр. 123. 10 Слово о полку Игореве. Библиотека поэта, Большая серия, 2-е изд., Л., 1967. 11 Там же, стр. 31. 12 Там же. 13 Там же, стр. 33. 14 Л. В. Черепнин. Летописец Даниила Галицкого. — Исторические записки, № 12, М., 1941, стр. 228. 15 Ю. К. Бегунов. Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли». М. — Л., 1965, стр. 110—114. 16 Слово о полку Игореве. Библиотека поэта, стр. 34. 17 Там же. 18 Там же, стр. 35. 19 Слово о полку Игореве. Библиотека поэта, стр. 20—22. 20 La Geste, стр. 292 и сл. 21 Слово о полку Игореве. Библиотека поэта, стр. 21. 22 В. М. Истрин. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, т. 1, Текст. Пгр., 1920, стр. 27. (В скобках помещены варианты, исправляющие чтения основного текста). 23 С. Шестаков. О происхождении и составе Хроники Георгия Монаха (Амартола). Казань, 1892, стр. 25—26. 24 Срезневский, I, 497. 25 Там же, II, 29. 26 Там же, 209. 27 Там же. 28 Joan Bogdan. Cronica lui Constantin Manasses. Bucureşti, 1922, стр. 36. 29 С. А. Высоцкий. Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв., вып. I. Киев, 1966, стр. 60—71. 30 Там же, стр. 71. 31 Там же, стр. 25. 32 М. В. Щепкина. О личности певца «Слова о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. XVI. 1960, стр. 78. О возможности для певца занимать независимую позицию в выборе князя-покровителя свидетельствует рассказ Галицкой летописи о трагической судьбе «словутного певца Митусы», «древле за гордость не восхотевшу служити князю Данилу» (Ипат. лет., 1244 г.). 33 Успенск. сб. XII в., стр. 87. 34 Б. А. Рыбаков. Прикладное искусство и скульптура. — В кн.: История культуры древней Руси. Домонгольский период, т. II. М. — Л., 1951, стр. 433. 35 М. В. Щепкина. О личности певца «Слова о полку Игореве», стр. 75. 36 А. В. Соловьев. Восемь заметок к «Слову о полку Игореве». — ТОДРЛ, т. XX. 1964, стр. 377—378. 37 С. А. Высоцкий. Древнерусские надписи Софии Киевской XI—XIV вв., стр. 42—43. 38 Там же, стр. 49—52 39 Св. Гординський. Слово о полку Ігореві і українська народна поезія. Вибрані проблеми. Вінніпег, Канада, 1963, стр. 39—40. 40 А. П. Евгеньева. Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII—XX вв. М. — Л., 1963, стр. 110—112. 41 Опыт такой реконструкции представляет статья Д. С. Лихачева: Народное поэтическое творчество в годы феодальной раздробленности Руси — до татаро-монгольского нашествия (XII — начало XIII в.). — В кн.: Русское народное поэтическое творчество, т. I. М. — Л., 1953, стр. 217—247. См. также статью: А. Н. Робинсон. Эпос Киевской Руси в соотношении с эпосом Востока и Запада. — V Конгресс международной ассоциации по сравнительному литературоведению, Белград, 1967. Изв. АН СССР, Отдел. литературы и языка, т. XXVI, вып. 3, 1967, стр. 209—226. 42 В. Г. Белинский, Собрание сочинений, т. VI, СПб., 1903, стр. 361, 367. Ср. характеристику «Слова» как былины XII в. в исследовании А. И. Никифорова, тезисы которого опубликованы в виде автореферата докторской диссертации под заглавием: «Слово о полку Игореве — былина XII в.» (Л., 1941). 43 Д. С. Лихачев. Истор. и полит. кругозор, стр. 50 44 Там же, стр. 10. 45 С. А. Высоцкий. Древнерусские надписи Киевской Софии, стр. 18 (№ 4), 24 (№ 5), 34 (№ 6), 37 (№ 7), 41 (№ 9), 45 (№ 10), 49 (№ 13), 60 (№ 25). 46 Д. С. Лихачев. Устные истоки, стр. 91. 47 Там же, стр. 60—91. 48 Далее при цитировании Изборника Святослава 1073 г. листы указываются в тексте в скобках. 49 Здесь и далее при цитировании Шестоднева листы указываются в тексте в скобках. 50 Слово о полку Игореве. Библиотека поэта, стр. 22—23. 51 Еремин, т. XIII, стр. 416—417. 52 Там же, стр. 416. 53 Даниил игумен, стр. 13, 41, 46. 54 См.: А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. 2-е дополн. изд., М. — Л., 1946, стр. 13—14. 55 См.: Ю. К. Бегунов. Памятник русской литературы XIII века «Слово о погибели Русской земли», стр. 154. 56 Еремин, т. XIII, стр. 412. 57 Флавий, стр. 310. 58 Там же, стр. 314. 59 Там же, стр. 346. 60 Там же. 61 Там же, стр. 359. 62 См. параллели: А. А. Потебня. Слово о полку Игореве. Текст и примечания. 2-е издание, Харьков, 1914, стр. 69—70; А. С. Орлов. Дева-лебедь в Слове о полку Игореве. — ТОДРЛ, т. III. 1936, стр. 27—36. 63 Здесь и далее при цитировании Изборника Святослава 1076 г. листы указываются в тексте в скобках. 64 Успенск. сб. XII в., стр. 21. 65 Иларион, стр. 60, 64. 66 Еремин, т. XIII, стр. 412. 67 В. Н. Перетц. 1) К изучению «Слова о полку Игореве». II. «Слово» и Библия; III. «Слово» и «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия. — ИОРЯС, т. XXIX, 1925, стр. 23—55; 2) К изучению «Слова о полку Игореве». IV. Эпитеты в «Слове о полку Игореве» и в устной традиции. — ИОРЯС, т. XXX, 1926, стр. 143—204; 3) «Слово о полку Ігоревім». Памятка феодальної України-Руси XII віку. Зап. Іст.-філ. від. Укр. АН, 1926. № 33; 4) «Слово о полку Игореве» и исторические библейские книги. Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского. — СОРЯС, т. CI, № 3, 1928, стр. 10—14; 5) «Слово о полку Игореве» и древнеславянский перевод библейских книг. — ИпоРЯС, т. III, кн. 1, 1930, стр. 289—309. 68 Н. К. Гудзий. 1) Ревизия подлинности «Слова о полку Игореве» в исследовании проф. А. Мазона. — Ученые записки МГУ, вып. 110, Труды кафедры русской литературы, кн. I, 1946, стр. 153—187; 2) По поводу ревизии подлинности Слова о полку Игореве. — Слово2, стр. 79—130. 69 La Geste, стр. 217—360. 70 Д. С. Лихачев. Устные истоки, стр. 53—92. 71 Словарь-справочник «Слова о полку Игореве», вып. 1 А — Г. Составитель В. Л. Виноградова, под редакцией Б. А. Ларина, Б. Л. Богородского, Д. С. Лихачева, изд. «Наука». М. — Л., 1965; вып. 2 Д-Копье. Составитель В. Л. Виноградова, под редакцией Б. Л. Богородского, Д. С. Лихачева, О. В. Творогова, М. — Л., 1967. 72 Tatjana Cizewska. Glossary of the Igor Tale. London, 1966. |
|---|
|
Наибольшую часть древнерусской светской беллетристики занимают исторические повести. «Историческими» эти повести называются применительно к старинному пониманию объема светского исторического повествования. Такое понимание выражено, например, в одной из проповедей Кирилла, епископа туровского (конец XII в.): «историки и витии, то-есть летописцы и песнотворцы, прислушиваются к рассказам о бывших между царями войнах и битвах, чтобы в изящной речи передать слышимое и возвеличить похвалами крепко боровшихся за своего царя и не обратившихся в бегство во время боя с врагами». Как понимал русский летописец объем исторического повествования, видно из Галицкой летописи: под 1227 г. — «Начнем же сказати бещисленыя рати и великыя труды и частыя войны, и многия крамолы, и частая востания, и многия мятежи»; между 1229 и 1230 г.: «по семь скажем многий мятежь, великия льсти, бещисленыя рати...» Действительно, если исключить известия и повести церковного характера, главное содержание русской летописи составляют повести о междукняжеских отношениях, т. е. о борьбе князей за право на лучшую область. Эти притязания выражаются в договорах, которые, как правило, нарушаются и влекут за собою междоусобия. Итак, большинство исторических тем действительно соответствуют перечислению их, данному в Галицкой летописи, и заключают в себе, как характерный признак, военные столкновения. Другими словами, исторические повести древней Руси по преимуществу являются «воинскими». Эти воинские повести не равны по степени реальности. Одни из них отражают действительные факты с сохранением деталей, другие дают лишь сочиненную картину, лишенную действительных черт события. Есть и смешанный тип повестей, средний между приведенными характерными крайностями. Сочиненность сказывается всего более в описаниях самих боевых столкновений. Для таких описаний выработался запас картинных черт, общих мест, из которых и компонировалось изображение боя. Сюда относятся такие образы, как треск оружия, тучи стрел, падающих подобно дождю, реки крови, падение трупов, подобно снопам, и т. д. Также типизировалась и относящаяся сюда фразеология: «бысть сеча зла», враг пришел «в силе тяжце», «потопташа», «давши плещи, побегоша», «утер поту» и т. д. Даже идеи, осмысляющие события, обращались в трафарет, например, столкновения объяснялись действием дьявола, победа — помощью ангельских полков, поражение — наказанием за грехи и т. д. И не только эти трафаретные образы, идеи и фразеология переносились, как подвижные картинки, из повести в повесть, но переносились даже индивидуальные образы и реалии, свойственные одной лишь повести, которые усваивались другою, позднейшею повестью путем литературного заимствования. Но не следует, конечно, преувеличивать значение шаблона, трафарета в русских исторических повестях. Его присутствие ощутимо во многих из них, но в разных комбинациях составных элементов и в разной степени. Из этого шаблона подлежат исключению однообразные технические выражения, свойственные практике военной среды, отличающиеся иногда образностью («взяша город на щит,которую не следует считать художественной принадлежностью именно исторической беллетристики; подобные выражения представляют собою обычную терминологию языка военной среды. Есть и такие повести, где эти образные термины и им подобные («соколы стрельцы») усиливают художественность изложения и придают ему яркую рыцарскую окраску. Но, несмотря на то, что исторические, в том числе и «воинские» повести, собранные преимущественно в летописях, не лишены индивидуальных черт, все же они имеют много общего как в отдельных элементах, так и в построении. Это общее позволяет выделить летописные повести в особый «книжный» жанр, развивавшийся в русле летописи, в литературной школе летописцев. В области русского исторического повествования были, однако, памятники, разительно отличающиеся от обычного летописного жанра, притом памятники большой художественности. Главная особенность таких произведений состоит в том, что они были полны лирического чувства и являлись бесспорно поэтическими и по содержанию и по форме. Будучи композиционно разнообразными, эти произведения не составляли однородного жанра, хотя некоторые из них, например плачи по уходящим в бой, над погибшими в бою, над умершими вождями и героями, имели общее между собою и могли бы быть объединены в один жанр. Следует оговориться, что такие плачи не ходили как отдельные самостоятельные произведения, а обычно включались в повести как один из мотивов общей композиции. Есть они и в летописных повестях, не являясь, однако, обязательной принадлежностью их шаблона. Представителей исторического повествования, которые были бы бесспорно поэтическими, полными лирического чувства, сохранилось мало, но это еще не значит, что они были в свое время редки. К этой категории принадлежат такие произведения XII и XIII вв., как Слово о полку Игореве, рассказ о степной траве половецкой «евшан», включенный в начало Галицкой летописи, в Слово о погибели русской земли, которым начинается один список повести об Александре Невском. Первое по красоте и поэтической глубине место занимает среди них Слово о полку Игореве. То обстоятельство, что Слово о полку Игореве, созданное в 80-х годах XII в., дошло до нас в единственном списке, еще не свидетельствует о малой распространенности этого произведения. Созданное на юго-восточной окраине Руси, оно там не залежалось, не затерялось на границе «дикого поля», оно обошло весь горизонт русской территории, не раз пересекло его окружность и через сто двадцать лет после появления поэтической его речью пользовались, как пословицей, на далеком северо-западном крае Руси. Несмотря на упорное гонение, направленное средневековой церковностью против произведений живого народного духа, Слово о полку Игореве не потонуло в потоке повестей, создавшихся по летописному шаблону, окрашенному библейской риторикой. Оно не только уцелело в среде своего культурного круга, но и заразило церковных книжников. Раннейшим фактом такого воздействия Слова на чуждую ему среду является запись на пергаменном Апостоле, культовой книге, написанной во Пскове в 1307 г. Отмечая «бой на Русской земле» между князьями Михаилом Тверским и Георгием Даниловичем Московским, запись говорит цитатой из Слова о полку Игореве: «при сих князех сеяшется и ростяше усобицами, гыняше жизнь наша, в князех которы и веци скоротишася человеком». Сравните в Слове: «Тогда при Олзе Гориславличи сеяшется и растяшеть усобицами, погибашеть жизнь Даждь-божа внука, в княжих крамолах веци человеком скратишась». Заимствуя из Слова, церковный книжник ограничился только устранением имени языческого «Даждь-бога», как деда русского народа, но верно понял, кто был его внуком («гыняше жизнь наша»). Еще через столетие, когда Россия ознаменовывала свою победу над татарами в 1380 г. рядом повестей о Мамаевом побоище на верховьях того же Дона, к низовьям которого стремился Игорь Святославич, Слово о полку Игореве снова оказало свое воздействие и опять-таки на творчество церковного книжника. Именно, в начале XV в. создалась, как подражание Слову, Задонщина, автором которой называли «Софония» или «Софрония», «иерея-рязанца». Прославляя победу общерусских войск московского князя Дмитрия Донского в 1380 г. символами и метафорами Слова, иерей-рязанец многого не понял в красоте своего образца, но как очарованный шел по его следам, не остывшим, несмотря на двухвековую давность. Обойдя три четверти горизонта русской территории (Северская область Черниговщины — Псков — Рязань — Москва), Слово о полку Игореве нашло себе прибежище в библиотеке Спасо-Ярославского монастыря, у архимандрита которого екатерининский вельможа Мусин-Пушкин и купил в 1795 г. рукописный сборник, включавший среди других произведений текст Слова о полку Игореве, переписанный в Псковской области в XVI, вероятно, веке. Итак, по изумительной диалектике жизни церковная среда, гнавшая «песни, басни и кощуны», культивировавшая вопреки им византийско-библейский стиль, сохранила для нас полуязыческое произведение мирской поэзии, добившись, однако, того, что сделала его текст редчайшим, единственным. Но Мусин-Пушкин, меценат-любитель русских древностей, собиравший их уже четверть века в свое древнехранилище, не сумел его сберечь. Оно погибло в московском пожаре 1812 г. вместе с единственным текстом Слова о полку Игореве. Что же осталось нам от этого текста, если даже пепел его развеялся сто с лишним лет тому назад? Осталось прежде всего печатное его издание, выпущенное в 1800 г. в Москве, в книге под заглавием «Ироическая песнь о походе на Половцов удельнаго князя Новагорода-Северскаго Игоря Святославича, писанная старинным русским языком в исходе XII столетия, с переложением на употребляемое ныне наречие». Это издание было приготовлено графом Мусиным-Пушкиным при деятельной помощи опытного архивиста и археографа Н. Н. Бантыш-Каменского и его ученика и помощника А. Ф. Малиновского, корреспондентов и консультантов Н. М. Карамзина по историческим вопросам. Собственно говоря, издание 1800 г. обязано своей научностью именно этим помощникам Мусина-Пушкина. Надо, однако, принять во внимание, что в конце XVIII в. историческая и литературная науки только зачинались в России и что обращение с сырым материалом средневековья, в частности воспроизведение рукописных текстов в печати, не имели еще разработанной методики. Нет сомнения, что и самая рукопись Слова о полку Игореве, легшая в основу издания 1800 г., будучи лет на триста с лишком позднее первоначального текста, заключала в себе ряд ошибок, как результат предшествующей неоднократной его переписки. Все это отразилось на качестве издания 1800 г., на воспроизведении в нем рукописного текста Слова. Наделение этого текста графикой, современной изданию, изменило подлинную внешность текста, подновило его орфографию, повлияло и на явления языка и на правильность чтений, не говоря уже о том, что ошибки самой рукописи не только не прояснились в ее издании, но получили еще более загадочный вид. В 60-х годах прошлого столетия в бумагах Екатерины II был найден писарской список с той же Мусин-Пушкинской рукописи, сделанный в 1795—1796 г. для императрицы по той же графической системе, что и в издании 1800 г. В этом списке есть, однако, отличия от издания, по преимуществу орфографические. Из перекрестного сопоставления печатного издания и этого списка не только восстанавливается исследователями ряд графических и орфографических явлений сгоревшего текста Мусин-Пушкинской рукописи, но и выясняется самая методика его воспроизведения учеными издателями 1800 г. Лучшие силы славянской филологии, истории и литературы полтора столетия трудились над реконструкцией чтений погибшего текста и над воссозданием его протографа, но результат этих трудов еще недостаточно значителен, да и не может быть доведен до конца без находки хотя бы еще одной средневековой рукописи Слова. Тем не менее, имеющийся в нашем распоряжении текст, несмотря на его несовершенства, позволяет судить о сущности этого памятника, о его художественном строении, о его образах, о его поэтическом языке. «Темных» мест, неразгаданных чтений не так уж много, и не столько они мешают исчерпывающему пониманию Слова, сколько лаконическая поэтичность автора, ясная для его современников и скрытая от поздних поколений. С XII в. неузнаваемо изменились не только политические и общественные отношения и черты быта, все, что меняется в потоке времени; изменилась и сдвинулась самая почва, на которой происходили события, отраженные Словом, на которой выросло само Слово. Эта территория на целые столетия уходила из-под опеки древнего населения; высокая культура ее центров перемещалась на север; ее природное обилие пришло в запустение, было истощено и затем подвергалось новому, иному культурному использованию. Наглядным примером этих перемен может служить древняя южная степь, воспетая Словом, от неизмеримого поля которой остались редкие заповедники, назначенные охранять жалкие остатки ее дикой красоты. Вот это поистине «темные места», которые затрудняют исчерпывающее понимание Слова о полку Игореве. Древняя южная степь от Дуная до Дона и Волги, в большей части своей территории еще не освоенная Русью, «земля незнаемая», «поле чистое», пропускала через свои просторы много народов, всего больше восточных кочевников. Со второй половины XI в. она стала «землей Половецкой». Степь эта представляла собою равнину, усеянную то «яругами» (оврагами), то «шеломеньми» (холмами, курганами, природными и насыпными) и поднятую кое-где ответвлением горных кряжей. Через степь неслись из Руси «на полъдне» «великие» реки и вливались своими «жерелы» (устьями) в «синее море», пересекши «поля широкая» и «пробив» «каменные горы». Были в степи и болота, «грязивые места» и поле «безводное». Черноземная степь весною покрывалась травами и цветами, седым ковылем, по которому развеялась радость Ярославны, и душистой полынью, запахом которой половецкий хан манил вернуться на родину своего брата, бежавшего на Кавказ от грозы Владимира Мономаха; эти травы питали скот кочевников, «кони, овьце и вельблуды», их топтали и волновали («въшуме трава») «вежи», «телегы» половецкие, которые скрипели, «кричали», как «лебеди роспужени». Степные травы то мирно покрывались «студеной росою», которую стряхивал («трусил») волк на бегу, то поливались кровью и посыпались прахом боевых столкновений, когда обнажалась «чръна земля под копыты». Пересекалась степь проторенными искони караванными «путями», о которых упоминал в 1170 г. Мстислав Изяславич Киевский, жалуясь на половцев, что они «уже у нас и Гречьский путь изъотимають, и Соляный и Залозный». Движение шло и «неготовами дорогами». Степные «поля широкая» с лесистыми яругами и реки, текшие в «сребренех брезех» под сенью «зелену древу», окруженные «лугами» и заросшие «тростием» (тростником, камышом), были полны зверями и птицами, от большинства которых, как насельников степи, сохранились одни названия или глухие упоминания. Когда во время похода Игоря по степи «свист зверинъ въста», мы не знаем, издавали ли его одни суслики («сусълы» летописи), непереведшиеся в степях и теперь, или какие-либо породы коз, например сайги, водившиеся там еще в XVI в. (Герберштейн). Остатки диких коз были еще в конце прошлого столетия у устья Трубежа. Но уже перевелись в этой степи «дикие кони», которых Владимир Мономах «имал своима рукама», туры, метавшие его рогами вместе с конем, и «лютый зверь», может быть, из породы «пардусов», с выводком («гнездом») которых сравнивает половцев Слово о полку Игореве. Многое, исчезнувшее в степи без следа, весь древний быт ее, мы можем воображать для понимания картин Слова при помощи летописи, украинских дум, донских исторических песен, при помощи художественных описаний наших классиков, писателей, еще заставших хотя бы следы екатерининской «Новороссии». Но ни художественные описания, ни научные исследования не представляют достаточного материала для существенных частей такой реконструкции. Даже путь, по которому двигалось войско Игоря, и место его побоища и плена остаются без точного определения. Степные пути и шляхи передвинулись и уже к XVII в. переменили свои названия, а реки или переименовались, или высохли. Вот это поистине «темные» места, которые затрудняют исчерпывающее понимание Слова о полку Игореве. Но народная стихия, отраженная Словом, осталась неизменной, иначе Слово не трогало бы далекие от него поколения, стоящие на высочайшем уровне культуры. Народность Слова и является залогом его понимания. Если мы пересмотрим условия жизни Руси на пространстве целых двух веков, от начала XI до конца XII столетия, когда было создано Слово, то убедимся в наличии двух основных несчастий Руси — это междукняжеская распря и опустошительные набеги воинственных кочевников, соседей южной Руси. Уже с половины XI в. такими кочевыми соседями были половцы, тюркский народ, который занял приморские степи от Волги и Дона до Днепра и Дуная и владел ими безраздельно до татарского нашествия. Как были опустошительны половецкие набеги на Русь, видно из речи Владимира Мономаха на княжеских съездах XI—XII вв.: «как станет крестьянин («смерд») пахать, приедет половчин, ударит его стрелою и лошадь его возьмет и, поехав в его село, возьмет жену его и детей и все имущество». «Если, — говорил Мономах князьям,— мы не прекратим междоусобий и начнет брат брата „закалати“, то погибнет земля Русская и враги наши, половцы, возьмут землю Русскую». То же не один раз говорили князьям и «мужи смыслении» из дружины: «зачем вы допускаете распрю между собою? Пользуясь ею, „погании“ (т. е. варвары) губят землю Русскую». «Если вы поднимаете рать между собою, „погании“ станут радоваться и возьмут землю нашу, которую „стяжали“ отцы ваши и деды ваши трудом великим и храбрством, побарающе по Русской земле». Трагичнее всего было то, что, борясь между собою за право на владение лучшей областью, русские князья сами приводили себе в помощь половецкие отряды на территорию Руси и в возмещение этой помощи отдавали половцам на разграбление область своих родичей, с которыми боролись. Наиболее действительным средством защиты Русской земли были совместные походы русских князей вглубь приазовских и черноморских степей. Летопись с гордостью отмечает, что Владимир Мономах черпал воду из самого Дона своим золотым шлемом (это символ овладения вражеской территорией). Герой Слова Игорь тоже говорил в начале своего похода дружине о своем желании пить шеломом из Дона, реки половецкой. К сожалению, русских походов вглубь Половецкой земли за XI и XII вв. было значительно меньше, чем нашествий половцев на Русь, ввиду трудности добиться единения первостепенных «старших» князей и привлечения их к военной коалиции. Наиболее успешные походы в половецкие степи были выполнены в конце XI и начале XII в. (с участием Святополка Киевского и Владимира Мономаха), затем в 40—70-х годах XII в. и, наконец, в 1183 г., когда предприняли поход Святослав Всеволодович Киевский и Рюрик Ростиславич с несколькими молодыми князьями. Пока главные русские силы этого похода отвлекали к себе внимание половцев, Игорь Святославич с братом, сыном и племянником (т. е. в составе князей, известном из Слова), сделал удачный набег на половецкий отряд, шедший на Русь. Когда, после значительной победы над половцами, вторгшимися на Русь в 1184 г., Святослав Всеволодович стал готовить коалицию князей для летнего похода вглубь Половецкой земли и в апреле 1185 г. послал туда отряд берендичей (союзные русским кочевники), Игорь Святославич с братьею самостоятельно предпринял поход в глубину придонских степей, послуживший темою Слова о полку Игореве. Существуют два летописных рассказа об этом Игоревом походе: в Ипатьевской и Лаврентьевской летописях. Рассказ Ипатьевской летописи очень характерен для летописного жанра. Он подробен и последователен. Прозаичность его скрашена умеренным проявлением чувства, выраженного рыцарски-воинственными лозунгами, не без участия и религиозной сентиментальности. Идея Русской земли, родины, также нашла себе здесь место, например, в упреке Святослава Киевского побежденным молодым князьям за то, что они «не воздержавше уности, отвориша ворота на Руськую землю», и в обращении его к Давиду Смоленскому: «а поеди, брате, постерези земле Руское». Звучит она и при описании подвигов Владимира Глебовича на защите от половцев Переяславля, куда он насилу спасся «язвен, труден» и где «утре мужественаго пота за отчину свою». Рассказ Лаврентьевской летописи, будучи отрывочен, кое в чем дополняет Ипатьевскую летопись, но противоречит не только ей, а и Слову о полку Игореве. К князьям, предпринявшим поход и потерпевшим поражение, Лаврентьевская летопись проявила наибольшее несочувствие; вообще рассказ ее явно тенденциозен. Кроме того он подвергся редакции какого-то церковника, нагрузившего изложение цитатами из Пророчеств, Псалтыря и Апостола. Основываясь на изысканиях акад. Шахматова, следует предположить, что развитая повесть о событиях Игорева похода на половцев была сначала составлена в Черниговской области, с тенденцией расположения к Игорю Новгород-Северскому, удельному князю этой области, причем, однако, в сочувственных чертах была отмечена и роль Владимира Глебовича Переяславского в ликвидации последствий Игорева поражения. Эта повесть в объеме, сохраненном Ипатьевской летописью, была сокращена в Переяславской области, с ревнивым ослаблением сочувствия Игорю и с особым подчеркиванием значения Владимира Глебовича Переяславского, причем кое-что, замолченное черниговским автором, было дополнено переяславским. Черниговская версия попала непосредственно в Ипатьевскую летопись, а переяславская через ряд владимирских летописных сводов — в Лаврентьевскую летопись. Для представления событий, послуживших темою Слова о полку Игореве, далее дается изложение рассказа Ипатьевской летописи, как последовательного и наиболее согласного со Словом не только по содержанию, но и по некоторым мотивам. Во вторник 23 апреля 1185 г. князь Игорь Святославич Новгород-Северский, брат его Всеволод Трубчевский, племянник Святослав Ольгович Рыльский и сын Владимир Путивльский, с вспомогательным отрядом «коуев» (осевшие кочевники), присланным Ярославом Всеволодовичем Черниговским, двинулись в поход на придонских половцев, собирая по пути дружину. Дойдя до реки Донца, а было уже к вечеру, заметил Игорь, что солнце «стояло, как месяц».1 Поникли головами бояре и дружина, ибо не добро предвещало это затмение. Но Игорь сказал: «Сами увидим, на добро нам или на зло сотворил его бог». Переправились через Донец, подошли к Осколу, где Игорь два дня поджидал брата Всеволода, шедшего из Курска. У реки Сальницы встретились с высланными вперед сторожами, которые видели половцев уже вооруженными и готовыми к бою и советовали войску домой вернуться. Русские князья не согласились на это: «Если нам, не бившеся, возвратиться, то срам нам будет хуже смерти». В пятницу впервые показались на той стороне реки Сюурлия половецкие полки, к которым подтянулись и их «вежи» (кибитки). Русские построились в шесть полков с отборными стрелками впереди. Игорь сказал братье своей: «Ведь, мы этого искали, так постараемся!». Выехали вперед и половецкие стрелки и, пустивши через реку «по стреле», ускакали; устремились прочь от реки и остальные половцы. Русские передовые полки погнались за ними, овладели вежами и захватили полон. После некоторого разногласия между князьями решено было переночевать на месте. На рассвете следующего дня, в субботу, половецкие полки стали наступать со всех сторон, подобно лесу («ак борове»). Князья недоумевали, кому на какой полк нападать. «Вот, кажется, всю землю их мы на себя собрали», говорил Игорь. Решено было пробиваться к Донцу пешими: «если побежим, спасемся сами, а рядовых ратников («черные люди») оставим, то от бога нам будет грех». Во время боя Игоря ранили в руку, много воинов погибло, но целый день, да и ночью бились русские, отступая. На рассвете воскресенья дрогнули черниговские коуи. Игорь верхом (так как был ранен) поскакал остановить бегущих и даже снял шлем, чтобы его узнали, но ничего не добился. На обратном пути, на расстоянии «перестрела» от полка своего, Игорь был схвачен половцами. Уже будучи пленным, смотрел он, как жестоко бьется брат его Всеволод, и просил «душе своей» смерти, чтобы не видеть братнего падения. «И тако во день святого воскресения наведе на ны господь гнев свой, в радости место наведе на ны плачь и во веселья место желю на реце Каялы». Это мне возмездие, думал Игорь, вспоминая кроволитие, насилия и плен, причиненные им населению Руси во время усобиц. Все князья были взяты в плен и разведены по вежам. Русские полки почти не уцелели, бежало лишь человек пятнадцать, а коуев еще меньше, остальные же потонули в море. О самочинно предпринятом Игорем походе великий князь Киевский Святослав узнал с досадой во время разъездов для подготовки своего летнего похода на половцев. Вскоре узнал он и о поражении Игоря с братьею. Горько вздохнув, сказал Святослав со слезами: «Увы, милые мои братья и сыновья, и мужи Русской земли! Дал бы мне бог „притомить“ поганых; но не сдержали вы порыва молодости своей и отворили им ворота в Русскую землю. Как сначала сердит я был на Игоря, так теперь жаль мне его, брата моего, стало». Плач поднялся по всей Черниговщине. Святослав послал за помощью к Давиду Смоленскому и к Ярославу Черниговскому. Одержав победу, половцы решили броситься на Русь. Кончак звал на Киевскую область, Кза на Посемье. Ханы разделились. Кончак осадил Переяславль, который мужественно защищал Владимир Глебович. Затем взял город Римов. Помощь старших князей не поспела из-за несогласий между ними. Кза пожег села около Путивля и даже часть его укреплений. Между тем Игорь Святославич все еще («тот год») жил в плену. Уважая его достоинство («аки стыдящеся воеводства его»), половцы не стесняли его. Стража Игоря состояла из родовитых юношей, он свободно ездил на охоту со своими слугами, вызвал даже попа из Руси, думая остаться здесь надолго, «не ведяшеть бо божия промысла». Но, с точки зрения автора повести, бог-то и освободил его. Половчин, именем Лавор, предложил Игорю вместе бежать на Русь. Игорь сначала не поверил ему, да и считал бегство при помощи половчина бесславием. Бывшие с князем в плену сын тысяцкого и конюший уговорили, однако, Игоря, передав ему слух, что возвращающиеся от Переяславля половцы намерены перебить всех русских пленных. Но сторожа были бдительны днем и ночью, и бегство было возможно лишь при заходе солнца. Игорь послал конюшего своего сказать Лавору, чтобы тот загодя переправился через реку Тор с поводным конем. Стало темнеть («бысть при вечере»), половцы напились «кумыза», конюший сказал князю, что Лавор ждет. Игорь встал в ужасе и трепете, помолился, поднял стенку вежи и вылез вон. Сторожа играли и забавлялись, думая, что Игорь спит, а он уже был за рекою и, сев на коня, пробрался с Лавором через вежи. Одиннадцать дней он шел пешком до Донца, а оттуда направился в свой Новгород-Северский, где ему все обрадовались; из Новгорода он прибыл в Чернигов к Ярославу, прося у него помощи на Посемье, а «оттоле еха ко Киеву, к великому князю Святославу: и рад бысть ему Святослав, также и Рюрик, сват его». Ниже, под 1187 г., среди других известий в летописи замечено: «Тогда же приде Володимер из Половець с Коньчаковною, и створи свадбу Игорь сынови своему и венча его и с детятем». Эта летописная повесть о несчастном походе 1185 г. составлена искусным книжником и не лишена настроения. Она, пожалуй, лучше всех повестей с половецкой темой, предшествующих в летописи. И не только канва событий похода, но даже некоторые черты собственно литературной композиции совпадают в этой повести со Словом о полку Игореве. Но все же и эта воинская повесть, подобно своим предшественницам в летописи, имеет коренные отличия от Слова. Сосредоточенностью рассказа исключительно на данных похода, деловитой последовательностью, преобладанием фактического изложения над образностью, отсутствием символики, умеренностью риторических украшений летописная повесть коренным образом отличается от Слова, охватывающего интересы всей Руси за целую эпоху, сопоставляющего настоящее с прошлым, пропитанного лирической страстностью и выраженного в метафорах и символах языком, исполненным ритма и музыки. Поход Игоря Святославича автор Слова использовал не как интересную авантюру, не как благодарный сюжет для повествователя, а как показательную картину, характерную для общего состояния своей родины, стонущей от несогласий внутри и обид извне. Слово не есть рассказ, это — раздумье над судьбой родной земли. Оно развертывает и раскрывает историческое бытие Руси, «от старого Владимира до нынешнего Игоря»; берет ее жизнь во всем охвате феодальных отношений за целых полтора столетия, вспоминая страшные усобицы XI в., когда редко слышен был окрик пахарей на мирном поле, чаще же раздавалось карканье воронов, делящих между собой трупы на полях междоусобной брани. Автор Слова не простой книжник, оформляющий события в повествовательном шаблоне, он гражданин и поэт. Не события владеют ходом его сказа, он подчиняет события развитию поэтических идей, смене настроения и эффектам картинности. Представим схему поэтического плана Слова. По общему мнению исследователей Слова, поэтический его план делится на три основные раздела. Первый из них посвящен событиям Игорева похода и последствиям русского поражения, второй — Святославу Киевскому, как оберегателю Русской земли, и третий — возвращению Игоря из плена. Эти основные разделы Слова о полку Игореве предваряются размышлением автора о стиле для «трудных повестий о полку Игореве», причем он склоняется «начать» свою «песнь» по «былинам сего времени, а не по замышлению Бояню» (былины — действительность, замышление — фантазия). Здесь далее характеризуется творческий размах «вещего» Бояна, песни которого во славу князей поминали усобицы прежних времен, будучи посвящены «старому Ярославу, храброму Мстиславу», победителю касогов (черкесов), «красному Романови Святъславличю» (т. е. событиям и лицам второй и третьей четверти XI в.). «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашется мыслию по древу, серымъ волкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы. Помняшеть бо, рече, първыхъ временъ усобице, тогда пущашеть десять соколовь на стадо лебедей, которыи дотечаше, та преди песнь пояше... Боянъ же, братие, не десять соколовь на стадо лебедей пущаше, нъ своя вещиа пръсты на живая струны въскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху». После этого введения, определив объем своего повествования «от стараго Владимера (т. е. Мономаха) до нынешняго Игоря», поэт сразу же приступает к развертыванию действия, к выступлению Игоря в поход «на землю Половецькую за землю Руськую». Солнечное затмение, случившееся в начале похода, не охладило боевого пыла героя, и неутомимая жажда отведать Дона Великого заставила его пренебречь знамением. «Тогда Игорь възре на светлое солнце и виде от него тьмою вся своя воя прикрыты. И рече Игорь къ дружине своей: „Братие и дружино! Луцежъ бы потяту быти, неже полонену быти, а всядемъ, братие, на свои бръзыя комони, да позримъ синего Дону... Хощу бо, рече, копие приломити конець поля Половецкаго, съ вами, Русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомь Дону!“» После предложения для «песни» об Игоре двух на выбор запевов в бояновском стиле («О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты сиа плъкы ущекоталъ» ...), идет быстрая смена картин, начинающаяся встречей выступившего в поход Игоря с братом Всеволодом в Путивле и изображением устами Всеволода готовности и удальства Курской дружины: «А мои ти Куряни сведоми къмети (молодцы, воины), подъ трубами повити (пеленаны), подъ шеломы възлелеяны, конець копия въскръмлени, пути имъ ведоми, яругы (овраги, балки) имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули (колчаны) отворени, сабли изострени, сами скачють акы серыи влъцы в поле, ищучи себе чти, а князю славы». «Ищучи себе чти, а князю славы» повторяется, как «рефрен», и далее. Описывается движение русского войска по степи под тенью затмения, а ночью среди зловещих криков зверей и птиц, в том числе и «Дива», крик которого с «връху древа» оповещает окрестные земли от Днепра до Волги, включая поморье, где стоит «Тьмутораканьский блъванъ» (статуя?). Одновременно идет спешное движение половцев к Дону «неготовами дорогами»; «крычатъ телегы полунощы, рци — лебеди роспужени». Вторично изобразив зловещие знамения степи (волки воют, орлы клектом на трупы зовут, «лисици брешутъ на чръленые щиты» русских), поэт восклицает: «О Руская земле! уже за шоломянемъ еси». Шеломя — холм, курган (здесь, вероятно, пограничный); это тоже «рефрен», повторяющийся далее. Долгая ночь, мглистое утро: «Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша, ищучи себе чти, а князю славы». Первое столкновение с половцами «съ зарания въ пяток» увенчивается победой русских над «погаными полками» и богатой добычей (красавицы-девки, золото, шелковые ткани, драгоценная одежда); ночь после боя с чутким сном и смутной тревогой за будущее: «дремлетъ въ поле Ольгово хороброе гнездо. Далече залетело! Не было оно обиде порождено ни соколу, ни кречету, ни тебе, чръный воронъ, поганый Половчине». На другой день с утра вся природа исполнена мрачных предвестий: надвигаются с моря черные тучи, сверкает синяя молния: роковой бой неизбежен, возврата нет: «О Руская земле! уже за шеломянемъ еси». Вот уже ветры, внуки Стрибога, повеяли с моря стрелами на храбрые полки Игоревы. На реке Каяле бесчисленные половцы с кликом обступили храброе войско Игоря со всех сторон, а против них поля перегородили червленые русские щиты. Беззаветный героизм русских поэт сосредоточил в образе князя Всеволода: «Ярый тур, Всеволод! Стоишь ты впереди («на борони», в авангарде), брызжешь на воинов стрелами, гремишь по шеломам мечами булатными; куда ты, тур, ни поскачешь, своим золотым шлемом посвечивая, там лежат поганые головы половецкие; рассечены саблями закаленными шлемы аварские тобою, ярый тур Всеволод! Какие раны страшны тому, братья, кто забыл почет и жизнь и город Чернигов, золотой престол отцовский, и своей милой красавицы Глебовны ласку и привет» («своя милыя хоти, красныя Глебовны свычая и обычая»). Яркая современность вызывает в поэте воспоминания об отдаленном прошлом, о событиях вековой давности: «Были вечи Трояни (Троян, может быть, римский император II в. Траян — завоеватель славянской территории), минула лета Ярославля, были плъци Олговы...» Возникает образ деда современных героев, известного Олега Святославича, который мечом крамолу ковал и стрелы по земле сеял; недаром в Слове он прозван «Гориславличем». Слава его подвигов звенела всюду, всюду росли усобицы, сокращалась человеческая жизнь, погибало благосостояние Даждь-божа внука, т. е. Русского народа, окрик пахарей заглушался карканьем воронов и говором галок, зовущих на трупы. Но и в те времена неслыхано о таком бое, как этот. Поэт снова возвращается к прерванному изображению битвы на Каяле и завершает его с исключительной экспрессией на фоне героического прошлого: «Съ зараниа до вечера, съ вечера до света летятъ стрелы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы, трещатъ копиа харалужныя в поле незнаеме среди земли Половецкыи. Чръна земля под копыты костьми была посеяна, а кровию польяна, тугою (т. е. горем) взыдоша по Руской земли». Звуки боя долетают до самого поэта и вызывают еще на мгновение образы двух братьев-князей: «Что ми шумить, что ми звенить давечя (или далече) рано передъ зорями? Игорь плъкы заворочаетъ, жаль бо ему мила брата Всеволода». Но упорный длительный бой близится к своему роковому концу: на третий день к полдню пали знамена Игоревы. Тут братья разлучились на берегу быстрой Каялы; тут недостало кровавого вина, тут кончили пир храбрые русские, сватов напоили и сами полегли за землю Русскую. Тяжесть поражения на Каяле поэт ставит в связь с признаками распада прежних феодальных отношений. «Невеселую годину» эту он олицетворяет в образе «Девы-Обиды», которая плеском своих лебединых крыльев «на синемъ море у Дону» будит воспоминание о прошедших счастливых временах. Княжеские усобицы прекратили борьбу с «погаными» за Русскую землю. Князья-братья стали говорить друг другу: «се мое, а то мое же», «про малое — се великое», «а погании съ всехъ странъ прихождаху съ победами на землю Русскую». Но случившееся непоправимо: «О, далече зайде соколъ, птиць бья — к морю. А Игорева храброго плъку не кресити». Последняя фраза и далее служит рефреном. «Карна» и «Жля» (олицетворения горя) пронеслись по Русской земле; русские женщины причитают по своим милым «ладам». «А въстона бо, братие, Киевъ тугою, а Черниговъ напастьми», печаль разлилась по земле Русской, разрушаемой княжескими крамолами и набегами половцев. Всеобщее уныние и горе тем сильнее, что еще недавно Русь торжествовала над половцами. Припоминается прошлогодняя блестящая победа великого князя Святослава Киевского, который самого хана «Кобяка изъ луку моря отъ железныхъ великихъ плъковъ Половецкихъ яко вихръ выторже». Контраст этой победы еще более усугубляет тяжесть и позор поражения Игоря. Все страны осуждают его, сам он из князя превратился в пленника-раба: «Ту Игорь князь выседе изъ седла злата, а въ седло кощиево. Уныша бо градомъ забралы, а веселие пониче». На этом заканчивается первый отдел Слова — о походе Игоря и его последствиях. Второй отдел посвящен Великому Святославу. Теперь выдвигается на первый план образ сюзерена княжеской Руси, блюстителя Русской земли, который и способствует развертыванию сказа. В личности великого князя Святослава поэт сосредоточивает свои гражданские помыслы о благе родной земли, вызванные впечатлением от разгрома Игоря. Великий князь Святослав, еще неосведомленный о несчастии, видит в своем тереме на Киевских горах сон, сулящий недоброе княжескому дому. Его будто бы покрывали черной шелковой тканью, подносили вино, смешанное с отравой, сыпали ему на грудь жемчуг (символ слез) колчанами, на златоверхом его тереме доски оказались «безъ кнеса» (средней балки), всю ночь граяли вороны и т. д. Бояре иносказательно толкуют Святославу его сон, как поражение князей на Каяле, повлекшее за собою новые набеги и торжество врагов. «Тогда великий Святъславъ изрони злато слово с слезами смешено». Как старший в роде, обращается он к Игорю и Всеволоду со словами жгучего укора за поспешность их предприятия против половцев и самонадеянность в погоне за славой. Он отдает должное их безмерной храбрости, но тем больнее чувствует их пренебрежение его великокняжеским авторитетом: «Се ли створисте моей сребреней седине!» Но горечь русского поражения не погасила дух Святослава, он оправляется и молодеет, как сокол весною: «А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли соколъ в мытехъ бываетъ (меняет оперение), высоко птицъ възбивает, не дастъ гнезда своего въ обиду. Нъ се зло — княже ми непособие...» Как бы из уст Святослава идут далее обращения во все стороны Руси со словами пламенного призыва князей «поблюсти» золотой стол киевский, выступить «за обиду сего времени», «за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святославлича». В этих воззваниях к современным русским князьям даны меткие их характеристики в поэтических гиперболах. Особенной мощью и независимостью наделены здесь Владимиро-Суздальский князь Всеволод, забывший на севере о золотом отчем престоле Киевском, и Галицкий Ярослав, занятый своей властью на Дунае. Нет надежды только на Полоцких князей, недружных и ослабевших силами. Негодующее обращение к ним осложнено образами, возникающими по контрасту; припоминается князь Изяслав, героически погибший в бою с Литвой, покинутый братьями; припоминаются в образах роскошной символики удивительные подвиги деда Полоцких князей, Всеслава, некогда воспетого Бояном. На призыв князей отклика с их стороны не показано в Слове. Русской земле остаются лишь воспоминания о славном прошлом, о безвозвратных временах «старого Владимира», потомки которого идут врозь: «но знамена их стягов теперь веют в разные стороны». Подвиги Всеслава представлены здесь в виде поэтической его биографии, композиционно законченной настолько, что она ощущается как отдельное самостоятельное произведение. Состоя из загадочных символов и иносказаний, эта биография ближе по стилю не к «былинам сего времени», а к «замышлению Бояню», и, возможно, представляет собою именно песню Бояна о Всеславе, пересказанную автором Слова. Тем же иносказательным стилем отличается и характеристика буйной деятельности Олега Святославича, данная в первом разделе Слова. И в ней возможио видеть отражение песни Бояна. Боян, действительно, был современником Всеслава и Олега; Всеславу он сказал «припевку»: «ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду, суда божиа не минути», а близкое отношение его к Олегу выражено, повидимому, при другом изречении Бояна в заключительной части Слова. К сожалению, относящийся сюда текст сильно испорчен. Переходим к третьему отделу Слова, связанному с возвращением Игоря из плена. Раскрытие образа Святослава не привело ни к солидарному выступлению князей против половцев, ни к спасению Игоря. Оно осуществляется иными путями. Тут возникает образ жены Игоря, Евфросинии Ярославны, и с высоты гражданских призывов к борьбе за страну поэт переходит на высоту личного пафоса. Одиноко горюя на городской стене в Путивле, Ярославна обращается к стихийным силам природы с горячими словами заклинаний, унаследованных от первобытной магии и теперь претворенных в поэтическую лирику. Ярославна шлет Ветру, Днепру Словутичу и Солнцу свои мольбы, и стихии как бы откликнулись на ее плач: «Прысну море полунощи, идутъ сморци (смерчи) мьглами. Игореви князю богъ путь кажет из земли Половецкой на землю Рускую». Следует изображение бегства Игоря, переданное сначала в прерывистом тоне волнения и страха, но постепенно переходящее в радость счастливого возвращения на родину. Достигнув Донца, Игорь обменивается приветствиями с этой рекой, охранявшей его в бегстве. Покровительству Донца противополагается река Стугна, которая, «худу струю имея», некогда утопила юного князя Ростислава, спасавшегося от половцев на днепровский берег. Если природа сочувствует и помогает Игорю, то она проявляет полное безразличие к половецким ханам, Гзаку и Кончаку, в их погоне за Игорем. Преследуя Игоря, Гзак и Кончак спорят о судьбе Игорева сына, оставшегося в плену: отомстить ли ему смертью, или привязать любовью к красавице-половчанке (намек на связь Владимира с Кончаковной). В заключении Слова к Игорю применено изречение Бояна, песнотворца старого времени, о взаимной тяжести разлуки Русской земли со своим героем. Но солнце вновь сияет на небе (намек на миновавшее затмение), а Игорь князь — на Русской земле. Девичьи песни с Дуная долетают до Киева, по стогнам которого уже едет Игорь «к богородице Пирогощей» (это — византийская «Пирготисса», по-русски «Нерушимая стена»). «Спевши песнь старым князьям, надо петь во славу молодым — Игорю, Всеволоду и Владимиру. Да здравствуют борцы за христиан. Князьям слава и дружине». Прославление князей и дружины, «побарающих за христианы на поганыя плъки», и направление Игоря «къ святей богородице Пирогощей», тотчас по возвращении на родину, должны свидетельствовать о христианстве самого автора Слова о полку Игореве. В то же время, что автор Слова был полон языческой традиции своей родины, видно из определений русского народа, как внука Даждьбога, песнотворца Бояна, как внука Велеса, и стихий природы, как порождения сил того же олимпа: «се ветри, Стрибожи внуци, веютъ съ моря стрелами на храбрыя плъкы Игоревы...». Слово вообще полно образами языческой мифологии. «Вся песнь, — как характеризует Слово К. Маркс, — носит христианско-героический характер, хотя языческие элементы выступают еще весьма заметно» (Письмо Ф. Энгельсу 5 марта 1856 г.).1 Степень освоения христианства, свойственная автору Слова, определяется тем, что он не оставил следов религиозной сентиментальности, не обмолвился ни одним намеком на грех и искупление. Это обращает на себя внимание в особенности при сравнений с обеими летописными повестями о походе Игоря, отмеченными покаянным настроением и идеей божеского наказания. Конечно, сообщение схемы поэтически построенного плана Слова еще не может дать удовлетворяющего представления о композиционном искусстве создателя этого произведения. Попытаемся дополнительно охарактеризовать в общих сначала чертах отношение автора к своей композиции. Автор Слова отличается от других известных нам представителей исторического повествования Киевской Руси не одной высотой, а и культом литературного стиля. Он стилист по преимуществу и при этом не практик только, а теоретик стиля, сознающий его значение и сознательно определяющий свойства его видов. Это явствует из того, что сказу Слова предпослано стилистическое чисто введение, где автор обсуждает вопрос, какой манерой излагать ему свое произведение, по Боянову ли «замышлению», или «по былинамь сего времени». И далее он не только поэтически характеризует стиль Бояна, а дает подражательно самые образцы этого стиля, не цитирует песни Бояна, а часть своей темы облекает напоказ формой Бояновой поэтики. По нашему мнению, все основное содержание Слова изложено особым оригинальным стилем, так сказать — промежуточным между Бояновым и тем, который автор Слова считает соответствующим «былинамь сего времени», т. е. реальности текущих событий. Не решаемся точно определить, что за «реалистический» стиль противополагался Боянову, книжный ли, летописный, хронологический и т. п., но позволяем себе предположить, что не его, как нечто готовое, избрал для себя автор Слова. Изложение Слова почти сплошь символично, реальность событий и их оценка как бы просвечивают сквозь символику, а это сближает стиль автора не с «реалистической» формой повествования, а с «замышлением». С Бояном автора Слова роднит ритмичность и музыкальность речи. Он говорит о песнях и струнах не потому только, что Боян пел с их аккомпанементом, а потому, что сам был полон песенного ритма и речевой музыки. Изложение в Слове не единообразно, его характер меняется соответственно сложному рисунку поэтической композиции. События излагаются не сами по себе, а путем картин и впечатлений, которые не развертываются в естественной последовательности, а пересекаются (например, прошлое с современностью), разрываются (например, сказ — размышлением, воспоминанием), переставляются (вопреки хронологии). Эволюционной форме изложения предпочитаются сдвиги, ожидаемому — неожиданность. Вспомним, например, неожиданное, внезапное видение автором того момента боя, когда Игорь пытается вернуть бегущие войска: «Что ми шумить, что ми звенить давечя рано предъ зорями» и т. д. Общий тон Слова — лирика, но и она не единообразна. Ведь и в любом героическом эпосе есть лирический элемент. Гомеровский певец Демодок в присутствии неузнанного Одиссея запел случайно о его подвигах и злоключениях и вызвал у него слезы, конечно, лирикой своего эпоса. Вот этой героической лирикой окрашено все «героическое» в Слове и особенно те его части, где автор раздумывает о судьбе Русской земли. Но у него есть и другая лирика, нежная, как женские песни, лирика разлуки с «хотию» и «ладой». Она звучит в причитании русских женщин по мужьям, ушедшим в поход на чужбину, и в поминании забытой героем красной Глебовны и особенно в «плаче» Ярославны. Эстетика Слова, естественно, принадлежит к «рыцарскому», «удельному» типу, что обусловлено темой произведения. Но в самом эстетическом типе литературы рыцарской среды XI—XII вв. ощутительны элементы живого «просторечия», не книжно-изысканные, не аристократические, что, например, сказалось в Поучении Мономаха и в его письме к Олегу Черниговскому. Эти чисто национальные элементы, уже присутствовавшие в образной песне Бояна, и в Слове являются существенной принадлежностью стиля. Не одно только рыцарство князей и их кметей поглощает внимание творца Слова, он помнит и о ратаях, земледельцах, мирному труду которых мешала эта удельная воинственность. И вот он углубляет национальность своего художества образами фольклора трудовых масс. Оставаясь постоянно художником, он мыслит как историк, глубоко любящий свою родину, и перипетии ее жизни изображает, то горюя о ее несчастиях и неудачах, то досадуя и гневаясь на ее нестроения, но неизменно прославляя мощь ее народа и героизм ее водителей и защитников. Неустройство отношений между князьями, их разобщенность, повлекшая за собой поражение Игоря и половецкий набег на Русскую окраину, не привели автора Слова к неисходному унынию. Напасти, постигшие Русь, не лишили мужества ее великого князя; в порыве защитить ее от вражеской «обиды» он забыл свои седины, и обидчики, половецкие ханы, уже почувствовали, что их скоро начнут бить в поле половецком. Такая смена настроений сопровождается в Слове разнообразием жанровых форм. Каждая из приведенных выше тематических частей плана Слова разлагается в свою очередь на законченные строфы, музыкальные по строению, частью наделенные даже повторным припевом, «рефреном» («ищучи себе чти, а князю славы»; «о Руская земля, уже за шеломянемъ еси»; «великая поля чрълеными щиты прегородиша»; «а Игорева храбраго плъку не кресити»; «за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святъславлича»). Стиховой строй народных песен звучит, например, в таком повторе: «Немизе кровави брезе не бологомъ бяхуть посеяни, посеяни костьми Рускихъ сыновъ». Сходство с фольклором сказывается в самом строении метафор Слова, в отрицательном их выражении, например: «не десять соколов пускал Боян на стадо лебедей, но возлагал свои вещие персты на живые струны», или — «не буря соколы занесе чрезъ поля широкая...» Близость к фольклору наблюдается и в постоянстве эпитетов, например: «светлое солнце», «чистое поле», ««сабли каленые», «острые стрелы», «острые мечи», «бръзые комони», «серые влъци» и т. д. Сюда же можно отнести эпитеты «золотой» и «серебряный»: «злат стремень», «златый шелом», «седло злато», «злато слово», «злат стол», «златокованный стол», «терем златоверхий», «се ли створисте моей сребреней седине»; «уже бо Сула не течетъ сребреными струями», «стлавшу ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезехъ». Некоторые эпитеты, современные Слову, неизвестны из других памятников: «синии млънии», «синее вино», «синя мьгла», «мечи харалужные», «копия харалужные»; «изрони жемчюжну душу изъ храбра тела чресъ злато ожерелие». В живой речи и в устной поэзии находят себе источник такие выражения, как: «ни мыслию смыслити, ни думою сдумати». Отношение Слова к устной поэзии, устанавливаемое обычно по сходству его фразеологии и некоторых образов с фольклорными записями, сделанными не ранее XVII—XVIII вв., подлежит уточнению. Среди цитат подобного рода есть, например, несомненно относящиеся к военному быту, к «рыцарской» среде: «копие приломити», «испити шеломомь (Дону)», «звенить слава», «ищучи себе чти, а князю славы», «стоять стязи», «падоша стязи», «въступи Игорь князь въ златъ стремень», «ступаетъ въ златъ стремень», «Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша», «потопташа поганыя плъкы», «сулици своя повръгоша», «понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени» и др. Эстетический элемент, свойственный живому языку, отражен Словом в наивысшей степени. Взять, например, точность языка, непререкаемое соответствие изображенного словесно реальной основе, как, например: «О Бояне, соловию стараго времени! абы ты сиа плъкы ущекоталъ...», «щекотъ славий успе, говоръ галичь убуди», «А Половци неготовами дорогами побегоша к Дону Великому: крычатъ телегы полунощы, рци — лебеди роспужени», «орли клектомъ на кости звери зовутъ, лисици брешутъ на чръленые щиты», «Тогда по Руской земли ретко ратаеве кикахуть, нъ часто врани граяхуть, трупиа себе деляче, а галици свою речь говоряхуть, хотять полетети на уедие», «Уже соколома крыльца припешали поганыхъ саблями, а самаю опуташа въ путины железны», «ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти», «Коли Игорь соколомъ полете, тогда Влуръ влъкомъ потече, труся собою студеную росу, претръгоста бо своя бръзая комоня». Но художественная форма Слова не лишена и книжной стихии, книжной литературности. Изысканная конструктивность как всего произведения, так и отдельных его частей, затем — риторизм не свидетельствуют об исключительно фольклорной непосредственности. Например, книжной искусственной фразеологией отличаются такие выражения, как: «вещиа пръсты на живая струны въскладаше», «истягну умъ крепостию своею и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго духа», «спалъ князю умъ по хоти, и жалость ему знамение заступи искусити Дону Великаго», «храбрая мысль носить вашъ умъ на дело». Надо учесть и то, что не все образы, метафоры и символы Слова принадлежат только стилистике фольклора, некоторые из них находят себя параллели не только в исторических повестях русских летописей, но и в византийско-славянской книжности разных жанров. По поводу отношения Слова о полку Игореве к переводной книжности говорилось уже давно и много, но можно и еще, умножив переводные параллели, развить и уточнить этот вопрос, без надежды, однако, получить теперь же окончательное его решение. Слово о полку Игореве — произведение риторическое по преимуществу. О том свидетельствует его насыщенность образными метафорами, символика и гиперболизм выражения. Но эта риторика не есть случайный каприз творчества, не есть только индивидуальная наклонность данного стилиста. Риторика Слова — это целый стилистический жанр, и едва ли в Слове мы имеем первое проявление такого жанра. Следует иметь в виду, что такой жанр давно уже развивался в Византии, вероятно, унаследованный от последней поры античности, отмеченной роскошью красноречия. Мы не в состоянии проследить этапы развития этого стилистического жанра в исторической беллетристике Византии; можем только привести один яркий образец его — в виде стихотворной Хроники Константина Манассии, составленной около 1144 г. и доводящей свое повествование до 1081 г. Хроника эта, переведенная по-болгарски прозою веке в XII, в переводе носит заглавие «Премудраго Манассия и летописца събрание летно, от създания миру начинающее и текуще до самого царства кир Никифора Вотаниота». Сходство по стилистическому жанру между Хроникой Константина Манассии и Словом о полку Игореве было отмечено двумя исследователями независимо друг от друга.1 Примеры из этой Хроники мы приводим здесь не для установления текстуальной близости Хроники к Слову о полку Игореве и даже не для сближения памятников по выбору самих образов. Мы хотим установить лишь общность стилистического жанра. Предупреждаем, что наглядности такого обобщения мешает невразумительный вычурный язык болгарского перевода, стремившегося передать изысканную лексику византийских стихов. Царь Лев Великий «рать страшну» «на Ливианы съставлѣетъ и на Гизериха, и воеводу приставлѣетъ обладающа ратию... Василиска. Рать убо сии устрашааше и долниихъ, покрывааше же море вѣтрилы корабныими, исполнѣаше море корабми водопловными, бѣху бо стрѣлцы, мечници, водниратници и по суши паче пѣска множъствомъ, дерзостию же яко зверие». К воеводе царя Иустина Велисарию «от Ливианъ съпостат любовь приложися, и въси точно богови воеводу хвалѣаху, от сего прѣвъзможе паче крѣпкыихъ стражъ и въсѣкого града, красна, добронырна и твръдонырна. Самыи же прѣкрасныи градъ Кархидонъ врата отвръзе... Обретъ же (Велисарий) царская Гелимерова тамо, богатъствомъ морѣ почръпе и рѣкы имѣниомъ и воемъ расточи плѣнъ другочестнѣ; с самѣмъ же Гелимеромъ съставль брань и кръвию наплънена сътворивъ Ливиискаа полѣ и въсѣко кръвию оброщено оружие показавъ, и варваръскими мрътъвци земя прикрывъ, явльшуся трупием постлану убиеныихъ. По многыихъ же бранехъ и мужоубиениихъ и по многыихъ съплетениихъ и конныихъ ратехъ и по конныихъ сокрушениохъ и сътрениохъ щитныихъ, конечнѣе и самого Гелимера съ женою и съ дѣтми умилеными образы поемъ плѣнены, оттуду яко многопобѣдныи възвратися воевода... О семъ же Велисарий уязвлѣется сердцемъ и въоружается крѣпце и тръзаетъ мечь, и съ оружноносцы твръдыми и храбрыими... яко львъ дръзосръдыи, въскочи въ срѣду и буяго народа съсѣче плъкъ... Бѣ же сие храборъство краснѣише паче пръвыихъ, и великъ Велисаръ бѣше въ храборствохъ». Фома Магистр «въоружается съ вои сътекшимися отвъсуду (перечислены страны) и плъкы събравъ, яко моръскыи пѣсъкъ, мужа храбры, оружноносны и силны, огнь въ бранехъ дыхающа, и мужа ратны, и оплъчается у Хрисополѣ... и наплънѣетъ полѣ храбрыихъ мужии и въся земя желѣзомъ; облиставааху копиа, сиааху же шлѣмове и щитове зорѣахуся, и въздухъ облиставаашеся сулицами». «Устрашишася копии (царя Иоанна Цимисхия) Киликиистии страже, въстрясошася отъ крѣпости его Аравъстии военачялници, Финикианин усъмнѣся искусною его руку, бльщащеся бѣжа от копиа его Сирѣнинъ, Едесъ видѣ его и Ефратскаа полѣ, Гръчьстии же коне напоишася водъ Ефратъскыихъ и скакании наплъниша того гръдыихъ. Видѣ сего Дунавъ и Скифъ близъ Истра живущии плъкы съсѣцающа и гоняща и побѣждающа съпостаты, яко же нѣкыи лев въпадъ на воловы великоребрыя, налегая и растръзая и уязвѣя нужднѣ. Тогда и струя рѣчныя в кръвь прѣложишася, и бысть кръвию очръвленъ доброводныи Истръ, сиирѣчь Дунавъ. Гръци ликовааху въ полихъ и островѣхъ, сердца же варварскаа страхъ уязвѣаше». Этот перевод Хроники Манассии, вошедший не ранее начала XV в. в хронограф, составленнный для русских сербом Пахомием, едва ли был известен автору Слова о полку Игореве. Возможно, однако, что ему был известен предшественник Манассии по жанру, т. е. был известен вообще этот стилистический жанр, развитой в Византии. Нам кажется, что начитанность автора Слова не подлежит сомнению. Большинство исследователей находили возможным сопоставлять некоторые выражения Слова с переводными, особенно с Историей Иудейской войны Иосифа Флавия, если не со всей хронографической компиляцией, составленной на Руси веке в XII из переводов Иосифа Флавия, Малалы, Амартола и «Александрии». Сопоставляли Слово и с Девгениевым деянием, т. е. с прозаическим переводом византийской стихотворной поэмы о пограничном богатыре Дигенисе Акрите. Эти сопоставления не предполагают, однако, тесной текстуальной зависимости Слова от поименованных переводных произведений, а только указывают на возможное знакомство автора Слова с некоторыми из них, в том числе и на тяготение автора к образному риторическому жанру. В самом деле, если не учитывать сходства Слова в части книжной фразеологии, общей многим памятникам, близость Слова к помянутым переводным повествованиям сказалась преимущественно в образах воинского типа, в воинственной риторике, разлитой по греко-византийским историческим произведениям в разной степени концентрации Любопытно то, что среди аналогий Слова есть произведения, сложенные в оригинале стихами, т. е. поэтические произведения, по существу культивировавшие риторику. Затем, из сопоставления Слова с Девгениевым деянием, стихотворный оригинал которого восходит к византийским былинам, вытекает, конечно, не знакомство автора Слова с переводом этого произведения, а его склонность к фольклорным реалистичным образам, отзвук которых остался от былин о Дигенисе Акрите в обработке византийского книжника. Напрасно В. Ф. Миллер стремился доказать, что именно Девгениево деяние воздействовало на Слово, передав ему свои грецизмы и болгаризмы. Теперь доказано, что перевод повести о Дигенисе был сделан русским, а не болгарином, а грецизмы перевода относятся к ряду таких, которые можно встретить в разных жанрах русской книжности, подвергавшейся византийскому влиянию. Но гипотеза Миллера свидетельствует о тонком чутье его как фольклориста. Нам кажется, что прежде всего отзвуки народной поэзии, родственные греческому и славяно-русскому фольклору, привлекли внимание исследователя к сопоставлению Слова и Девгениева деяния, памятников, ярко запечатленных народностью. К сожалению, автор гипотезы пошел не от этой точки отправления, а от общего представления о неизбежной зависимости древнерусской литературы от византийско-болгарской, особенно если русский памятник глубокой древности отличался высочайшим художеством. Но, как бы то ни было, существо дела, конечно, не в начитанности и наслышанности автора Слова, не в подражательности или независимости его творчества, не в изобретательности его как стилиста, а в том, что его произведение неподражаемо, что, каковы бы ни были по происхождению элементы Слова, они сложились в «свое», все принадлежит великому его автору, как он принадлежит великому народу. Представляя собою бесподобное слияние устной и книжной стихии, Слово о полку Игореве, если и пользовалось стилистикой, выработанной в книге и частью восходящей к античной традиции (например, образ поющего лебедя), то так изменяло или развертывало эту свою основу в поэтическом направлении, что получалось нечто совершенно самостоятельное. Например, и в летописях и в переводных памятниках трупы сравниваются со снопами (История об Иудейской войне Иосифа Флавия), кладбище — божья нива, чаша смерти (Библия) и т. д. В Слове же даются такие развернутые картины: «Чръна земля подъ копыты костьми была посеяна, а кровью польяна, тугою взыдоша по Руской земли»; «на Немизе снопы стелють головами, молотятъ чепы харалужными, на тоце животъ кладутъ, веютъ душу отъ тела»; «ту кроваваго вина не доста, ту пиръ докончаша храбрии Русичи, сваты попоиша, а сами полегоша за землю Рускую». Следует оговориться, что подобные образы отмечены и в фольклоре. Но вот обычное выражение русской летописи «стрелы идяху, аки дождь», не встреченное в устной поэзии и, вероятно, восходящее еще к античной традиции, передано Словом в обратной метафоре: «быти грому великому, итти дождю стрелами». Наивысшим слиянием устной и книжной поэзии отличаются три эпизода Слова: сон Святослава, «золотое» его «слово» и «плач» Ярославны. Роскошью иносказаний особенно наделена биография Всеслава, рожденного по летописи «от волхвования», почему он и «немилостив есть на кровьпролитье». Мысль о неожиданности появления в раннем русском средневековье столь сложного и высокохудожественного памятника, как Слово, неисторична и неверна. Слово не могло возникнуть без подготовительного периода в русской литературе, да оно и не единично среди русских памятников XI—XIII вв. ни по элементам формальным, ни по идеологии. Предшествующие и современные ему исторические повести имеют с ним много точек соприкосновения. И если Слово как повесть («трудныхъ повестий о пълку Игореве», «почнемъ же, братие, повесть сию») отличается от жанра других повестей, то не самыми элементами выражения, а концентрацией их и применением. Затем, Слово ведь не повесть только, а и песня («начати же ся тъй песни», «певше песнь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пети»), т. е. оно не чуждо и песенному жанру, представителя которого мы знаем в лице Бояна, «песнотворца стараго времени». Это песнотворчество князьям во славу было в расцвете при Владимире Мономахе, при его сопернике Олеге Святославиче — и еще ранее, но книги не донесли до нас его образцов. Может быть, Бояновы и подобные песни и не предназначались для книги, или такие книги исчезали, гонимые средневековою церковью. Автор Слова, отмежевываясь от «замышления Бояня», все же находился под его воздействием. Он обновил и развил старую манеру княжеских певцов и довел их героическую песнь до героической поэмы, применив к ее строению опытность писателя, в совершенстве знающего книжные жанры.1 Поэма эта, несомненно, ритмична; значительную часть ее текста многие исследователи пробовали разлагать на стихотворные строки и даже предполагали, что она пелась. Но до сих пор еще не установился общий взгляд по этому поводу, так как на пути к решению вопроса стоят большие трудности. Прежде всего самый текст Слова дошел до нас не в рукописи XII в., а в списке века XVI с подновленной орфографией и с ошибками, что еще более было умножено изданием 1800 г. и писарской копией Екатерины II. Затем, до метрического собственно исследования надлежало еще предварительно установить нормы произнесения некоторых звуков и законы ударения для языка XII в. Установление же этих норм и законов до сих пор находится в начальной стадии. Наконец, самая метрика для XII в., по отсутствию древних аналогий, является весьма гипотетичной. Наибольшим знатоком в области языка и стихосложения, академиком Ф. Е. Коршем, Слово о полку Игореве было исследовано со всех перечисленных сторон. Он реставрировал подлинную звуковую орфографию Слова, разложил весь реставрированный текст на стихи «былинной» системы, расставил ударения, принял во внимание и собственно музыкальную сторону, но, чтобы соблюсти стих на всем протяжении памятника, принужден был допустить много изменений не только в формах слов, но и в самом изложении текста. Этот опыт Ф. Е. Корша, несмотря на поразительную ученость и остроумие, оказался неубедительным, именно в отношении к проблеме, было ли Слово стихотворением и пелось ли оно. Все читатели и слушатели Слова, от XVIII в. до наших дней, ощущают ритм этой поэмы, но от ритмической мерной речи еще нельзя делать прямого заключения о ее стихотворной форме. И у русских классиков-прозаиков можно указать образцы такого изложения, например, в «Тарасе Бульбе»: белый ус его серебрился, Кто же главный герой этой поэмы? Хотя Слово и насыщено обильно именами князей, от прадедов и дедов до современных Слову их внуков; хотя Киевский Святослав зовется «грозным, великим» и особенно отмечается военная мощь Ярослава Галицкого и Всеволода Владимирского, а также храбрость братьев, предводителей похода, Игоря и Всеволода Святославичей, но не им во славу создана эта поэма, никто из них не заслужил быть истинным героем Слова. Героем Слова является «Русская земля», добытая и устроенная трудом великим всего русского народа. Храбрые полки Игоря идут «за землю Русскую»; это не просто воины, ратники, кмети, а «Русичи», дети Руси; углубление их во вражескую степь сопровождается горьким прощанием с родиной: «О Русская земля! уже ты за курганом!» Знаменитый дед Игоря Олег получил от автора Слова укоризненное прозвище «Гориславич», вместо отчества своего «Святославич», за то, что в усобицах своих усеял трупами родную землю и нарушил мирный труд ее «ратаев» — пахарей. Княжеские распри и крамолы допустили «поганых со всех стран» ходить «с победами на землю Русскую». И вот все областные князья призываются к единению и общей защите Русской земли: «Смысл поэмы, — писал К. Маркс, — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов».1 Сам автор Слова не придерживался местных, узко-областных интересов, он был настоящим сыном всей Русской земли, представителем Русского народа. Семь с половиной веков прошло с тех пор, как создалось Слово о полку Игореве, и эти века не стерли его красок, не погасили его чувства, его любви к родине и забот об ее общем благе. Творя историю своей родины, народ не раз находил в Слове созвучие своему творчеству. Откуда бы ни заимствовал современник автора Слова о полку Игореве, Кирилл Туровский, свое определение двух разновидностей писателей, он четко разделил их на «историков и витий», иначе, на «летописцев и песнотворцев». Те и другие «приклоняют свой слух» «въ бывшая межи цесари рати и ополчения». Писатель-летописец отличался от песнотворца, следовательно, манерой изложения, способом выражения мыслей, подходом к материалу. А материал для тех и других был одинаков — события военные. Никоновская летопись, поместив под 1409 г. печальную повесть о разгроме Руси Едигеем, суровую объективность изложения оправдывает ссылкой на «начального летописца» Сильвестра Выдубецкого, «не украшая пишущего», который «вся временнобытства земскаа, не обинуяся, показуеть». В этом состоял основной прием летописцев. Автор Слова о полку Игореве вводит в сложную лабораторию песнотворцев. В самом начале автор обращается к читателям с предложением, которое при небольшой перестановке слов звучит так: «Не лѣпо ли ны бяшеть, братіе, начяти о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича, старыми словесы трудныхъ повѣстій». Такое обращение не стоит особняком. Волынская летопись под 1227 г. пишет: «Начнемъ же сказати бесчисленныя рати и великыя труды и частыя войны...» Предлагается, таким образом, вспомнить «трудную повесть», поведать о ратных трудах прошлого (хотя бы недавнего). Для поэтов это прошлое безраздельно понимается как «былины». Припомним начало поэмы «Нибелунги»: «Нам в старых былинах чудесного много рассказано о героях славных, о великом труде ратном...» Однако в дальнейшем автор называет свое произведение «песнью», о чем не забывает до самого конца: «Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти». Только песнь эту автор предполагает скомпановать «по былинамъ сего времене», «а не по замышлению Бояню». Творчества последнего не раз касается автор «Слова». Явственно выступают приемы этого певца времени Ярослава. Боян далеко выходил из рамок реализма: он скакал соловьем по мысленному дереву, как сизый орел летал умом под облаками, носился серым волком по земле, через поля и горы. Безудержный полет вдохновения Бояна не привязывал его всецело к данному объекту воспевания. Его задача — набросать широкую, обобщающую картину, свить «славы оба полы сего времени», т. е. в песне славы коснуться настоящего с прошлым. Например, собираясь петь об усобицах «първыхъ временъ», Боян припоминал Ярослава, Мстислава, Романа, набрасывая весь комплекс отношений Руси Киевской и Тьмутараканской. У «вещего» певца, подобно соколу, выхватывающему из стада первую попавшуюся лебедь, первая затронутая пальцем струна гуслей давала тон дальнейшему, живые струны «сами княземъ славу рокотаху». Стихийный лиризм Бояна чуждался всякой плановой постройки. Песнь о Всеславе Полоцком, написанная автором Слова в явное подражание Бояну, представляет этому прямое доказательство. Очень важно, что поэт показывает, как сам Боян скомпановал бы песнь об Игоревом походе. Он начал бы ее или с отрицательного сравнения на фоне широкой картины гонимых бурей птиц: Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая, или — аккордом шума и звона выступающей русской рати: Комони ржуть за Сулою, Определив творчество Бояна, автор Слова остановился перед альтернативой: сложить ли «трудную повѣсть» или «пѣснь», но не «по замышлению Бояню». Сначала он попробовал создать «трудную повѣсть»: «Почнемъ же, братіе, повѣсть сію...» При этой попытке он следовал Бояну только в том, что «свивал» «славы оба полы сего времени», т. е. собирался припоминать о прошлом при изложении настоящего. Прошлым автор Слова выбирает времена «старого» Владимира Мономаха, идеального для поэта князя, все время стремившегося погасить междоусобицы, объединить Русскую землю. Возвращение к этому старому времени выдержано на всем протяжении Слова. Изобразив Игоря, так сказать, внутренне приготовившимся к выступлению, упомянув о затмении солнца, приведя обращение Игоря к смутившейся зловещим знамением дружине, автор резко оборвал изложение горячим обращением к Бояну: вот бы ты, вещий, сумел воспеть этот поход! Этим, собственно, кончается попытка создать «трудную повѣсть»; дальше идет «пѣснь» об Игоревом походе. В стилевом отношении этот повествовательный отрывок сильно отличается от дальнейшего. Он переполнен выражениями, находящими себе полное соответствие с оборотами воинской повести, переводной и летописной. Риторически отвлеченное «истягну умъ крѣпостію своею и поостри сердца своего мужествомъ...» — относится к таким книжным приемам и не повторяется в дальнейшем. Воспоминание о соловье-Бояне перестраивает поэта. Приведя его возможные зачины, певец Игорева похода начинает произведение как бы с начала, на этот раз в тоне второго предполагаемого Боянова «соловьиного щекота». У автора он звучит так: Трубы трубять въ Новѣградѣ. Дана картина сбора в поход. Солнечное затмение упоминается вторично. Хотя в дальнейшем будут приводиться «припевки» Бояна, компановаться вставные песни вполне в его духе, все же Слово о полку Игореве нельзя считать песнью, подобною Бояновой. Сто лет, отделяющих песнопения Бояна от Слова о полку Игореве, при быстром поступательном движении русской литературы должны были сказаться на коренном изменении поэтики знаменитой песни. Автор Слова далек от вольного орлиного полета, волчьего рыскания, гоньбы сокола за лебедями. Его песнь, прежде всего, подчинена строгому плану. В стройной, хотя и сложной композиции, автор Слова с необыкновенным поэтическим мастерством излагает событие 1185 г. в ряде тесно связанных между собою картин-песен. Многие из них кончаются рефренами, «припевками»: «Ищучи себе чти, а князю славѣ», «О Русская земле, уже за шеломянемь еси»; «Ничить трава жалощами, а древо съ тугою къ земли преклонилось». Рефренов много, причем некоторые повторяются по нескольку раз. Ясно, что сам поэт видел в них «припевки», отделяющие одну поэтическую часть от другой. В песне о Всеславе, сложенной вполне в духе Бояна потому, что она относится именно к тому времени, поэт приводит рефрены самого Бояна. Автор Слова намеренно не придерживается последовательного изложения событий. Перед местами, особенно драматическими, он делает отступление, вводя песни, уводящие, главным образом, в воспоминание о прошлом. В этих, так сказать, интерлюдиях встречаются возвращения к «старому Владимиру». Таких три: первая помещена перед описанием роковой битвы, говорит о жестоких походах Олега «Гориславича», кончается рефреном: «то было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицеи рати не слышано»; вторая содержит краткое упоминание — сожаление, что нельзя же «пригвоздити къ горамъ кіевьскымъ» старого Владимира; третья рассказывает о гибели Владимирова брата Ростислава, ее рефрен: «Уныша цвѣты жалобою и древо съ тугою къ земли прѣклонилось». Все интерлюдии глубоко эмоциональны, полны высокого лиризма. Среди них обращают особое внимание: песнь о Деве-Обиде, нагоняющей лебедиными крылами паводок печали на Русскую землю; плач русских жен, когда «Карна и Жля» несутся, «смагу мычючи въ пламянѣ розѣ», и особенно плач Ярославны. Структура последнего, с ясно разделенными строфами, одинаковыми запевами, поражала внимание поэтов нового времени. Многие из них перелагали только один «плач», придавая ему характер и давая название «романса» (И. Козлов, В. Загорский, Н. Берг). Другими вводными интерлюдиями являются картины природы, предваряющие и сопутствующие наиболее сильным местам рассказа. Мрачными объятиями встречает природа вступающих в половецкую степь русских: ночь стонет грозою, слышатся крики зверей, зловещего Дива; кровавые зори, черные тучи, завыванье ветров, внуков Стрибога, стон земли, мутное течение рек, тучи пыли предсказывают исход роковой битвы; дятлы стуком путь кажут возвращающемуся Игорю, Донец-река поздравляет освободившегося героя. Проникновенно изложена благодарность князя Игоря Донцу за то, что качал его на волнах, постилал постелью зеленую траву на своих серебряных берегах, одевал теплым туманом, стерег птицами на воде, на струях, на ветрах. Поэт выдвигает навеянные ему знамением — затмением солнца — аллегорические смутные образы, символизирующие нарастающую печаль поэмы. Таков упомянутый Див, предупреждающий половцев, «Беда» Игоря, разгоняющая птиц, Дева-Обида, плещущая на синем море, «Карна и Жля» с погребальными факелами. Только Донец дружески беседует с героем, зато припоминается, что Стугна погубила юного Ростислава, Сула с Двиною не серебряными струями, а «болотом» текут к полочанам, растерявшим прадеднюю славу. Поэт в высшей степени музыкален. Действительно, он умеет «приклонять слух», по выражению Кирилла Туровского. Нет другого памятника, столь полного шума, звона, стона. «Что ми шумить, что ми звенить давечя рано предъ зорями», — восклицает сам автор. Половцы наступают «с кликом», гремят мечи, сабли о шеломы, трещат копья, трубят трубы, кричат телеги в полночь, звонят «в прадеднюю славу», звенит слава... Поэт слышит позванивание золотом готских красавиц, пение девиц на Дунае, голоса которых вьются через море, рев хищных зверей, клекот птиц, рыканье туров, пение соловьев, заунывную кукушку Ярославну. Он прекрасно умеет передать звон кованой рыцарской рати; от зловещего этого звона старый Владимир «затыкал уши» у себя в Чернигове. Земля стонет, «тутнет» при движении рати, сопровождаемом зловещими раскатами грозы, плеском моря, шелестом травы. Карканье хищников противопоставлено замолкшим возгласам хлебопашцев; читателю даже слышно трепетание половецких веж во время Игорева побега. Не менее богата живописная палитра автора Слова. Поэт продолжает находиться под впечатлением случившегося затмения: «два солнца помѣркоста, оба багряная стлъпа погасоста», — говорят бояре об Игоре со Всеволодом. Солнце Игорю — тьмою путь заступало, а когда прошла беда — «солнце свѣтится на небесѣ, Игорь князь в Руской земли». Блеск доспехов, освещенных солнцем («посвечивание шлемом»), сменяется синими молниями, кровавыми зорями, мглистыми туманами. Клику поганых русские противополагают свои красные щиты; красный стяг, белая хоругвь, красная челка, серебряное «стружие» достаются храброму Святославичу. Живописный талант поэта подсказал поражающие современного читателя метафорические картины. Сведомые Всеволодовы «кмети» — рожденные на поле брани ребята: их пеленали под звуки труб, укачивали под шлемами, кормили с конца копья. Олег Гориславич — ковач и пахарь земли Русской, только ковал он крамолу, сеял стрелы. Плох сев, когда черная земля вспахана конскими копытами, сеяна костьми, полита кровью. Жатва, результат такого сева, ужасна: постилают снопы-головы, молотят булатными «цепами», на току отдают жизнь, веют душу от тела. Где же народу веселиться после успешного окончания полевых работ. Битва — это брачный пир, когда недостает кровавого вина, когда напаивают «сватов», а сами ложатся «за землю Русскую», когда, вместо ласк молодой жены, Изяслава Васильковича «приласкали» литовские мечи на окровавленной траве-постели. Поэт средневековой поры, автор Слова многими образами пользуется из обихода соколиной охоты, любимой забавы феодалов. Когда Игорь жил в плену, половцы, как рассказывает повесть Ипатьевской летописи, обходились с ним весьма мягко: «волю ему даяхуть, гдѣ хочеть, ту ѣздяшеть и ястребомъ ловяшетъ». Начиная со сравнения игры Бояна с соколиной охотой, поэт последовательно, тонко проводит этот лейтмотив по своей поэме. Игорь с товарищами — Ольгово храброе гнездо, не для обиды рожденное; Мстиславичи, их трое, не «худого гнезда» шестокрыльцы — это Мстиславово храброе гнездо; когда сокол линяет, — говорит Святослав Киевский, — высоко птиц подбивает, не дает своего гнезда в обиду. Далеко зашел Игорь-сокол, птиц избивая, к половецкому морю. За это сабли поганых подрубили обоим братьям крылья, надели на них железные путины. Поэт говорит: «припѣшали» — сокол с подрезанными крыльями звался «пѣшим». Струны гусель, телеги, Дева-Обида сравниваются с лебедями — главной соколиной добычей. Прекрасен разговор половецких ханов, мчащихся вослед Игорю: Если сокол к гнезду летит, расстреляем мы соколенка золотыми стрелами, — говорит один. — Нет, лучше опутаем соколенка красной девицей, — возражает сват Игоря, Кончак. — А если мы его женим, — возражает Гза, — то ни соколенка, ни красной девицы у нас не будет, «почнуть наю птици бити въ полѣ половецкомъ». Автор «Слова о полку Игореве» в высшей степени искусно пользуется внешними изобразительными средствами. На первый план следует поставить употребление «аллитераций» и «ассонансов». Это начальное, внутреннее, иногда синтаксически конечное созвучие идет с глубокой древности. Им пользовался Гомер, подражал Вергилий (Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris...). Особенного развитая достигли эти созвучия в средневековье; их значительно поддерживала народная поэзия. Такова, например, гармония слова, всецело основанная на аллитерации, в народном эпосе «Калевала». Аллитерация Слова роскошна. Ее не мог не заметить ряд исследователей (П. Вяземский, Е. Барсов, Р. Абихт, І. Франко, В. Ржига). Всего чаще она встречается на начальную согласную: «та преди пѣснь пояше», «пороси поля прикрываютъ», «в пятокъ потопташа поганыя плъкы Половецкыя, и рассушася стрѣлами по полю, помчаша красныя дѣвкы Половецкыя», «вѣтри Стрибожи внуци вѣютъ», «тъщими тулы поганыхъ тлъковинъ», «тугою имъ тули затче», «князи сами на себе крамолу коваху». Особенно часта аллитерация на с, с его изменением на з: «се ли створисте моей сребреней сѣдинѣ»; «сабли изъострени, сами скачуть аки сѣрыи влъци», «жалость ему знамение заступи искусити...» Существуют речения комбинированные, с чередованием с и плавных р, л: «съ зараніа до вечера, съ вечера до свѣта летятъ стрѣлы каленыя, гримлютъ сабли о шеломы, трещатъ копіа харалужныя въ полѣ незнаемѣ среди земли Половецкыи». Весьма употребительны плавные в сочетании с предшествующими одинаковыми или сходными согласными: «Святъславъ изрони злато слово, съ слезами смѣшено», «чрьленъ стягъ... чрьлена чолка, сребрено стружіе храброму Святъславличю». Относительно гласных звуков следует отметить ассонансы на о: «дремлеть въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо, далече залѣтѣло, не было оно обидѣ порождено, ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронъ, поганый Половчине». Здесь — прямая напевность. Интересны ассонансы на у, вообще на широкие гласные, выражающие натиск силы, гнет: «взмути рѣки и озеры, иссуши потокы и болота» (они напоминают подражательное В. Брюсова: «Третий на коне тяжелоступном, в землю втиснувшем упор копыт, в забытьи, волненью недоступном, недвижимо, сжав узду стоит»). Встречаются созвучия более сложные: «на кровати тисовѣ», «темно бо бѣ»,«сквозѣ землю», «чему мычеши», обѣсися синѣ мьглѣ», «на морѣ рано...» Аллитерация звучанием усиливает зловещие картины: «Солнце ему тьмою путь заступаше, нощь стонущи ему грозою птичь убуди, свистъ звѣрий въ стаи зби». Здесь слышны зловещие завыванья ночи. У поэта аллитерация доходит до своеобразной рифмовки: «страны ради, гради весели». Особенно часто оперирует он со словом слава: «Бориса Вячеславича слава», «Изяслав притрепа славу», «славу Святославлю», «разшибе славу Ярославу». К аллитерациям, наконец, следует отнести синтаксический параллелизм: «нъ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте» «ни нама будетъ сокольца, ни нама красны дѣвице». Стремление к созвучию окончаний приводит автора непосредственно к рифме: «помѣр коста — погасоста — поволокоста — погрузиста — подаста». Отдавая должное великому индивидуальному мастерству автора, поэтику Слова все же надлежит считать уходящей своими корнями в русскую народную поэзию. Изобразительные средства современного фольклора многое донесли от далекой древности и во многом напоминают поэтические приемы Слова. Сопоставления фольклора с поэмой не раз делались исследователями, но не часто, причем бывали иногда довольно односторонни. Так, например, М. Максимович, А. Потебня привлекали для сравнения фольклор преимущественно украинский, хотя давали материал и русский. Наиболее обстоятельное и в то же время доказательное сравнение Слова с русским фольклором принадлежит А. Смирнову. Символика русского фольклора во многом одинакова со Словом. Сокол — символ героя: «Высоко сокол поднялся и о сыру матеру землю ушибся», «Не ясен сокол перелетывал, Не белый кречет перепархивал», — приезжал Илья Муромец. Соловей — певец: в эпосе имя Соловья дано искусному гусляру, пленяющему княжескую племянницу. Кукушка — тоскующая женщина: «Вскинусь я, взброшусь я кукушечкою, Полечу на свою сторону, на батюшкину». Ворон служит символом грубой силы: «Летает Невежа черным вороном»; в украинской и белорусской песне — ворон символ несчастья: «Ой у леси черны ворон граче, А мне молодому головку оплаче»: волк — символ быстроты: Волх «обернулся серым волком»; «это начал он, ведь, по полю побегивати»; тот же Волх в образе тура бежит к царству Индейскому: «Он первый скок за целу версту скочил, А другой скок не могли найти». В Слове, как в фольклоре, в большом ходу прием сравнения положительного и отрицательного. Следует отметить трехчленную формулу сравнения, в сущности, редкую в русской народной поэзии (она свойственна юго-славянской): утверждение — отрицание — утверждение. В Слове: Боян пускает десять соколов на стадо лебедей — не десять соколов пускает — вещие персты налагает. В фольклоре: рано на заре поймал соловей кукушечку — не кукушечку поймал — красну девицу. Часто встречающаяся в Слове тавтология: трубы трубят, свет светлый, мосты мостити, мыслию смыслити, думою сдумати, песнь пояше, суды судити — обычна в народной поэзии, где тоже: мосты мостити, суды судити, думу думать. Одинаковы в Слове и в фольклоре достоянные эпитеты: серый волк, сизый орел, черный ворон, каленая стрела, храбрая дружина, зеленая трава, борзый конь, широкое поле, златоверхий терем, тисовая (тесовая) кровать; В. Далем в его «Словаре живого великорусского языка» приведено — серебряная струя. Живописное обращение Ильи Муромца к коню вполне созвучно с изобразительными обозначениями голосов зверей и птиц в Слове: «Неужель не слыхал крыку звериного, Свисту змеиного и щекотанья соловьиного», или «Станет речи говорить, Точно лебедь прокричит». Исследователями приводились более обстоятельные параллели с фольклором. Так, еще Максимович отметил, что сравнение битвы с посевом, жатвой в Слове («Чръна земля под копыты костьми была посеяна, а кровию польяна») находит себе близкое соответствие в украинской песне: Чорна роля заорана, кулями засіяна, Этот образ сохранился и в поздней солдатской песне: Распахана шведская пашня Фольклорный образ пир-битва («ту кроваваго вина не доста; ту пиръ докончаша храбріи Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Русскую») сближает Слово с украинской и русской народной песней: Гей друзі, молодці, браття козаки запорозці! Смерть на бою уподобляется брачному союзу и в поздней казацкой песне, где казак наказывает своему коню: Ты скажи моей молодой жене, Наконец, Слово о полку Игореве роднится с фольклором общностью лексического состава. В «Словаре живого великорусского языка» В. Даль приводит слова, знакомые нам по Слову о полку Игореве: смага, яруга, болонь, котора, стяг, кмет (в значении «парень»), кресити, засапожник (охотничий нож, прижатый ножнами к голенищу). В областных — туга (белорусское), чернядь (черная утка, в б. Архангельской губ.). В народной лирике и эпосе: жир (в значении «обилия»), хоть, лада, комонь, шеломя, ратай, аксамит («самит»), гридница, путины («шелковыя»), хоботы, черлен; у Кирши Данилова — лелеять, рано зазвонили у заутрени, речь говорили. Примеры могут быть умножены. Они определенно показывают, что Слово о полку Игореве неотделимо от фольклора. За долгое время, отделяющее Слово от современного фольклора, в последнем многое изменилось в отношении содержания под влиянием исторических, общественных перемен. Но краски не погасли, сохранившись так же свежо, как фрески или мозаики XII в. В обстоятельном разборе «романсов о Сиде» Ф. Буслаев отметил, что в романском эпосе можно найти много подробностей, сходных с встречающимися в наших старинах. Герои в «Chansons de geste», подобно богатырям, отличаются непомерной силой поражают врагов первым попавшимся оружием (ослиной ногой, например), много пьют и едят, применяют одинаковые приемы при единоборстве. В статье приводится убедительное сравнение эпизода с Запавой и Соловьем Будимировичем, когда тот упрекает ее: Всем ты мне, девица, в любовь пришла, с репликой Жирара Вианского герцогине, которая объясняется ему в любви и предлагает руку: «Неужели обычай изменился и теперь принято, чтобы сами невесты приходили свататься?» Исследователь счел долгом отметить, что подобные сравнения возможны только по степени развития народного быта, выраженного с разных сторон в русском и западноевропейском эпосе. Бытовые черты исторически слагались независимо друг от друга, но могли сходствовать как по врожденному всем народам единообразию в общих началах исторического развития, так и по разным основам, общим в цивилизации европейских народов: простотой и грубостью ранней цивилизации средневековых народов, некоторыми обычаями, влиянием христианства, церковных книг, других литературных источников, общих на востоке и западе Европы. Эти высказывания крупного знатока древнерусской и западной литературы не надо терять из виду при частых сопоставлениях Слова о полку Игореве с другими произведениями средневековой поэзии. Слово не раз сравнивалось с «Песнью о Роланде» с точки зрения общности идеи и художественных приемов. Однако наиболее обстоятельный в этом отношении исследователь (В. Каллаш) принужден был заметить, что оба памятника, наиболее родственные друг другу, «органически вырастали из почвы народной поэзии, которая везде и всегда имеет много сходных приемов, сюжетов и красок; оба прошли через своеобразную общественную среду — дружинную и рыцарскую, создавшую при сходных условиях очень близкие друг к другу результаты». Замечание это повторяет, в сущности, положение Буслаева. Развиваясь при более или менее сходных обстоятельствах, средневековье могло одинаково реагировать на исторические события. В этом отношении любопытно сопоставление русской знаменитой поэмы с произведением грузинского поэта Шота Руставели — «Витязем в тигровой шкуре». «Слово» и «Витязь» — сверстники, возникшие почти одновременно. Основная идея Слова о полку Игореве — стремление к единству Русской земли, к собиранию народной силы в противовес ослаблению и раздроблению государства благодаря усобицам князей-феодалов. В эпоху Слова феодальная раздробленность достигла наивысших пределов, вызвав появление гениального поэтического призыва к единству. Такой же призыв к защите родной земли, к власти, которая могла бы победоносно отразить натиски кочевых народов, бороться с внутренними разногласиями своекорыстных феодалов, звучит в высоком произведении Руставели. Однородная общественно-политическая обстановка вызывает сходные идеи. Только в этом направлении следует сопоставлять памятники мировой литературы. Поэтика каждого принадлежит ему самому. Поэтика Слова о полку Игореве — народна, как народна и его идея, и в то же время гениально своеобразна. Примечания 1 Затмение случилось 1 мая 1185 г., у Донца оно видимо было в 3 ч. 25 м. по киевскому времени, т. е. при начале «вечерен» на Руси. 1 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXII, М. — Л., 1931, стр. 122—123. 1 П. В. Владимиров. Древняя русская литература Киевского периода XI—XIII вв. Киев, 1900, стр. 36 и 309. — А. С. Орлов. Слово о полку Игореве. Москва, 1923, стр. 12, 13, 51, 52. 1 Приведем характеристику поэзии Слова о полку Игореве, принадлежащую М. А. Максимовичу (1845): «Песнь Игорю не импровизирована и не пропета, а сочинена и написана, как песнь о Калашникове Лермонтова, или русские песни Мерзлякова и Дельвига. Разница та, что новейшие поэты пробовали придавать искусственной письменной поэзии характер поэзии народной; а певец Игоря возводит народную изустную поэзию на степень образования письменного, на степень искусства. Он поэт, родившийся в веке изустной поэзии, полной песнями и верованиями своего народа, но он вместе и поэт грамотный, причастный высшим понятиям своего времени, он поэт писатель». Эта характеристика, несмотря на устарелость выражений, неясность терминологии и упрощенность некоторых понятий, до сих пор привлекает своей чуткостью и глубиной основной мысли. 1 Письмо Энгельсу 5 III 1856. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, Переписка 1854—1860, М. — Л., 1931, стр. 122. |
|---|
|
Выяснение пути, по которому Игорь Северский совершил свой поход на половцев в 1185 г., продолжает привлекать внимание исследователей до настоящего дня. За последнее время в печати высказано несколько возражений против предложенного мной варианта пути Игоря.1 Это побуждает меня вновь пересмотреть свой вариант, дать ответ моим оппонентам и изложить некоторые новые дополнительные доводы. Как известно, Н. М. Карамзин место столкновения Игоря с половцами относил к бассейну нижнего Дона. Однако ряд исследователей, начиная с В. Н. Татищева, считают, что события похода Игоря разыгрались в районе среднего течения Северского Донца, а не нижнего Дона. К этому выводу пришли еще современники Н. М. Карамзина — академик П. Бутков и Н. Арцыбашев, а вслед за ними Д. Дубенский, Н. П. Барсов, Н. Я. Аристов, Д. И. Багалей, П. В. Голубовский, А. В. Лонгинов, В. Г. Ляскоронский, академик Б. Д. Греков, М. Д. Приселков, К. В. Кудряшов, В. А. Афанасьев, Н. В. Сибилев, В. Г. Федоров. Однако недавно появилась статья В. М. Глухова, который, в сущности, пытается возродить (с некоторыми поправками) давно отвергнутый наукой вариант Н. М. Карамзина.2 Ссылаясь на поэтическое выражение в «Слове», где говорится, что «два сокола слетеста с отня стола злата поискати града Тьмутороканя»,3 В. М. Глухов целью похода Игоря считает овладение Тмутараканью, а принимая во внимание громадное расстояние, которое предстояло пройти до нее северским полкам, полагает, что: 1) все войско Игоря было конным; 2) из Новгород-Северска Игорь направился к верховьям Мжа и Коломака, переправился через Донец на Савинском перевозе и 2 мая подошел к Осколу; соединившись со Всеволодом, Игорь переправился будто бы 4 мая через Оскол (?), и, двигаясь по левой стороне Донца, северские князья достигли самого нижнего Дона. С этими утверждениями В. М. Глухова никак нельзя согласиться. Прежде всего, фраза, извлеченная из поэтического произведения, — это еще не историческое свидетельство. Мысль о том, что будто бы Игорь намеревался овладеть Тмутараканью, требует обоснования в исторических источниках. Летописи ничего подобного не подтверждают. Ни Лаврентьевская, ни Ипатьевская летописи при описании похода Игоря о Тмутаракани даже не упоминают. Ипатьевская летопись о причинах похода и вовсе молчит, отмечая только, что северские князья начали свой поход, «утаившеся» от князя Святослава.4 Лаврентьевская летопись, относящаяся отрицательно к военным действиям Игоря и Всеволода, говорит более откровенно, что, завидуя удачным походам Святослава, северские князья задумали сами пойти на половцев, заявляя: «Мы есмы ци не князи же? Пойдем такоже себе хвалы добудем».5 Следовательно, цель похода — не отдаленная, недоступная Тмутаракань, а гораздо более близкие степные районы и реальные для южнорусских князей политические цели. В. Г. Федоров не без основания обратил внимание на слова В. Н. Татищева о том, что «Игорь, завидуя чести, полученной Святославом, уже возвратясь в Новгород, не долго медля, собрал войско»;6 но дело было не в одной «зависти». Следует здесь вспомнить, что, по хорошо обоснованному мнению М. Д. Приселкова, поход Игоря в 1185 г. был связан с политикой Византии, призывавшей Русь отвлечь обратно в степь половецкие силы, посланные на помощь болгарам, восставшим против Византии в 1185 г.7 Неубедительны также соображения В. М. Глухова в пользу того, что якобы все войско Игоря было конным. С. М. Соловьев, внимательно изучивший вопрос о численности и составе войска русских феодальных князей XII в., пишет, что «если борьба шла между князьями... например между Черниговским и Северским, то мы не можем предположить, чтобы каждый из них мог вывести в поле больше пяти тысяч войска».8 Но указанное С. М. Соловьевым число включало и конных и пеших воинов. Если даже допустить, что у Игоря было 2000 конных воинов, то с одной только конницей, столь малочисленной, Игорю предстояло бы пройти от Оскола до нижнего Дона за шесть дней (по подсчетам самого В. М. Глухова) огромное расстояние, около 400 км, делая каждый день переход по 65 км в среднем.9 Мыслимо ли допустить, что с такими незначительными силами Игорь рискнул предпринять столь далекий «конный рейд» через обширную Половецкую степь, где слабому русскому отряду угрожала бы постоянная опасность со всех сторон от многочисленных кочевников, из которых каждый взрослый был конным воином? Подобное допущение было бы невероятным. Против него говорят и другие данные. Еще в 1170 г. на совещании русских князей было открыто заявлено, что половцы «у нас и Греческий путь отнимают и Соляный и Залозный».10 Значит, южнорусские князья даже общими объединенными силами не могли уже удержать в своих руках пути, соединявшие Русь с Причерноморьем. В степи половцы господствовали. При таких условиях Игорю невозможно было и мечтать о том, чтобы с одними своими силами отважиться на поход для овладения далекой Тмутараканью. Стараясь доказать, что все войско Игоря Северского в походе 1185 г. было конным, В. М. Глухов приводит целый ряд цитат в подтверждение общеизвестного факта, что русские феодальные князья XII в. владели конскими табунами. Он считает, будто бы русские князья «могли в случае похода сажать на коня городское ополчение и своих смердов».11 Однако историки, изучавшие этот вопрос (С. М. Соловьев, Б. Д. Греков и др.), приходят к другим выводам. В специальной главе, посвященной «воям», Б. Д. Греков указывает, что в состав воев набираются как сельчане (главную массу которых составляют смерды), так и горожане, причем «сельчане-смерды всегда изображаются в войске пехотинцами. На конях сражаются князья и дружина, возможно, что и часть горожан». По поводу походов 1109 и 1111 гг. тот же исследователь пишет, что «конница была тогда немногочисленна», а «кони нужны были главным образом для обоза».12 Ссылаясь на летописное описание похода 1111 г. и на «Поучение» Владимира Мономаха, Н. М. Карамзин указывает, что русские «воины не носили тяжелых лат в походе, когда неприятель был еще далеко... Они и самое оружие посылали на возах вперед к сборному месту».13 С. М. Соловьев к этому добавляет, что в походе не только оружие везли на возах, но на них же ехали и сами вои.14 Хотя В. М. Глухов и признает участие пехоты в походе 1103 г., но, ссылаясь на возросшее в XII в. значение конницы в военном деле, считает, что начиная с похода 1111 г. князья якобы «имеют только конное войско».15 Но подобное утверждение противоречит летописи, которая рассказывает, что русские князья, дойдя до р. Голтвы, остановились и «ту пождаша и вои»,16 иными словами, ушедшая вперед конница вынуждена была поджидать на Голтве подхода пехоты; и, значит, пешее войско, вопреки утверждению В. М. Глухова, участвовало в походе 1111 г. Не следует также забывать, что в XII и XIII вв. в военном деле на Руси пешее войско по-прежнему продолжало играть важную роль. Участие пехоты в русском походе 1111 г. в глубь половецких степей было обычным явлением. Характеризуя военное дело на Руси в период феодальной раздробленности, Б. А. Рыбаков справедливо замечает, что «пешее войско заходило даже глубоко в степь (при походах на половцев); без пехоты князья иногда не решались даже вступать в бой, а в столкновениях с конницей пехота нередко одерживала победу».17 Обычный боевой порядок русских войск состоял из центра («чело») и флангов («крылья»). В центре ставилась пехота, а на флангах — конница. В XII в. перед центром стали выдвигать еще одну линию.18 Именно такое построение наблюдается в походе Игоря Северского в 1185 г. перед боем на р. Сюурлий. Северские князья, видя, что они окружены со всех сторон половцами, рассуждали так: «оже побегнем, утечем сами, а черныя люди оставим, то от бога ны будет грех: сих выдавше, пойдем; но — или умрем, или живы будем, — все на едином месте».19 Эти слова летописца с несомненностью удостоверяют, что в походе Игоря участвовали и пешие воины — «черные люди». К этому выводу пришел целый ряд исследователей. Б. Д. Греков, например, пишет, что «в походе на половцев в 1185 году князья сошли с коней и начали биться в пешем строю, чтобы в случае отступления не оставить на поле битвы пешую часть войска — „черных людей“».20 Д. С. Лихачев также признает, что войско Игоря включало «конную княжескую дружину и пешее ополчение из крестьян».21 Полагаем, что вопрос об участии пехоты в походе Игоря не нуждается в дальнейшем разъяснении. Добавим к этому, что если бы даже все войско Игоря действительно состояло из конницы, то и в этом случае надо было бы признать, что столкновение северских войск с половцами разыгралось в районе между Изюмом и Тором, т. е. в Донецком бассейне. К такому выводу неумолимо принуждает неоспоримое указание в Книге Большому Чертежу на местонахождение реки Сальницы около Изюма. По утверждению В. М. Глухова, поход Игоря был совершен не на Донец, а на Дон, в подтверждение чего делается ссылка на Ипатьевскую летопись, которая будто бы называет именно реку Дон.22 Однако в действительности в Ипатьевской летописи в описании похода Игоря ни разу не упоминается о Доне, но зато трижды называется Донец, а именно: при описании похода северских войск к этой реке, при переправе через нее и, наконец, при отступлении к ней после ночлега в степи. Вопреки ошибочному мнению В. М. Глухова, Северский Донец иногда в древних источниках действительно называется Доном. Это правильно подметил еще 200 лет тому назад В. Н. Татищев, который по поводу летописного описания похода 1111 г. говорит: «Здесь хотя во всех манускриптах написано — на реке Дону, но обстоятельства доказывают, что это Донец Северский, который Доном на многих местах именован, что и река Салница, сказанная здесь, утверждает, ибо оная течет в Донец с правой стороны, ниже Изюма, как в Большом Чертеже показано. Сия же ошибка, что Донец Доном называется, есть древняя».23 С этим мнением В. Н. Татищева согласились и позднейшие исследователи, как Н. Барсов, Голубовский, Д. Багалей, К. В. Кудряшов, Б. А. Рыбаков, В. Г. Федоров и др.24 Для географического определения места столкновения войск Игоря с половцами важнее всего указание Ипатьевской летописи на реку Сальницу, где высланные вперед русские «сторожа» — разведчики встретились с подошедшими войсками Игоря. Согласно Книге Большому Чертежу, Сальница впадает в Северский Донец с правой стороны, между реками Изюмом и Изюмцом, вблизи нынешнего города Изюма. В. М. Глухов отказывается верить показанию Книги Большому Чертежу относительно Сальницы на том основании, что в 37 рукописных списках Книги Большому Чертежу о Сальнице не упоминается и будто бы только в печатных изданиях (1792 г.) этого источника Сальница показана впадающей в Северский Донец около Изюма.25 Но приведенное возражение В. М. Глухова ничего еще не доказывает. То обстоятельство, что в одних списках Сальница упоминается, а в других ее нет, свидетельствует лишь о том, что были разные редакции Книги Большому Чертежу, — и только, не более. А что рукописные экземпляры с упоминанием о Сальнице действительно были, это подтверждается тем, что еще в 1740-х годах, т. е. задолго до опубликования (1792 г.) Книги Большому Чертежу, В. Н. Татищев имел ее рукописный экземпляр, где Сальница упоминалась. Н. С. Арцыбашев в 1820-х годах писал, что Сальница «впадает с правой стороны в Донец не только выше Оскола, но даже и Изюмца (см. Книгу Большому Чертежу; мы имеем ее рукописную)».26 Значит, и в XVIII и в XIX в. имелись рукописные экземпляры с упоминанием о Сальнице. Если бы даже до нашего времени и не сохранилось ни одного такого списка, это все же не давало бы права отрицать их существование в прошлом. Троицкая летопись, например, до нашего времени не сохранилась, но кто же из историков на этом основании станет сомневаться в том, что она существовала? Единственный известный список «Слова о полку Игореве» был уничтожен пожаром в 1812 г., и остались только две копии «Слова». Однако никто из исследователей (в том числе и сам В. М. Глухов) не отрицает существования списка «Слова» в прошлом. Не забудем также, что 11 списков Книги Большому Чертежу остались еще неразысканными,27 и среди них вполне могут быть списки с упоминанием о Сальнице. К этому добавим, что ни один историк, начиная с современников Н. М. Карамзина (П. Бутков, Н. С. Арцыбашев и др.), не отрицает показаний Книги Большому Чертежу относительно Сальницы. Автор самой новейшей работы о «Слове», В. Г. Федоров, также опирается на свидетельство Книги Большому Чертежу о Сальнице, которую правильно помещает в бассейне Северского Донца, около Изюма. Указанное местоположение Сальницы подтверждается и наличием возле нее Изюмского кургана («Кременная гора», «шеломя»), за который выступила в степь Русь, о чем «Слово» восклицает: «О, Русская земля! Уже за шеломянем еси!».28 Из летописного описания похода Игоря Северского видно, что Каяла находилась в районе между реками Сальницей и Сюурлий, от которой русские отступали к северу «хотяхуть бо бьющеся дойти рекы Донця».29 Таким образом, неоспоримое свидетельство Книги Большому Чертежу о местонахождении Сальницы в районе Изюма, вблизи Изюмского кургана, подтвержденное пребыванием Игоря в плену именно на реке Тор, недалеко от Сальницы, — все это, вместе взятое, делает невероятным всякое предположение о местоположении реки Каялы в бассейне нижнего Дона. Тщетны поэтому все попытки В. М. Глухова предложить на выбор сразу три Каялы, а именно: 1) Кагальник, правый приток Дона, впадающий несколько выше устья Северского Донца; 2) реку Маныч и 3) Кагальник, впадающий в Азовское море ниже устья Дона. Ни одна из этих мифических «Каял» не может удовлетворять требованиям научной достоверности. Они свидетельствуют лишь о большой авторской изобретательности В. М. Глухова и опровержения не требуют. Впрочем и сам В. М. Глухов, видимо, не очень доверяет своим домыслам о «Каялах» и готов согласиться с теми исследователями, которые слово «Каяла» понимают в символическом значении, в переносном смысле.30 Прежде чем перейти к вопросу о местонахождении Сюурлия и Каялы, исследователю необходимо определить среднюю величину дневного перехода русских войск в XII в., так как оба эти вопроса неразрывно связаны между собой. Для суждения о величине суточного перехода русских войск в XII в. летописи дают материала недостаточно. Во время похода 1103 г. русских пеших воинов везли по Днепру до самой Хортицы на ладьях, а конница шла по берегу. Соединившись, русские войска за 4 дня прошли от Хортицы до реки Сутени (Молочная) около 100 верст,31 следовательно делали переход в среднем около 25 верст в день. Во время похода 1111 г. русские войска, выйдя 26 февраля из Переяславля, в пятницу 3 марта дошли до реки Сулы и, таким образом, за 6 дней прошли немногим более 120 верст, делая в среднем переход в 20 верст. Продвигаясь далее, русские достигли реки Ворсклы во вторник 7 марта, т. е. за 4 дня прошли еще около 130—135 верст, делая в среднем переход около 33 верст. Все же расстояние от Переяславля до Ворсклы, составляющее, по Аристову, около 260 верст, было пройдено в 10 дней, и, значит, в среднем однодневный переход равнялся 26 верстам (хотя в отдельных случаях величина однодневного перехода колебалась в пределах 20—38 верст). Вслед за Н. Аристовым к тому же выводу пришли Н. Барсов, А. В. Лонгинов и др.32 Наши собственные изыскания также подтверждают указанный вывод. Летописные данные о походе 1170 г.33 и зимнем походе 1187 г.,34 не содержат необходимых сведений для определения размера однодневного перехода. Здесь возможны лишь более или менее вероятные догадки, но они не могут служить опорой для надежного вывода. Стремясь расширить материал для суждения по затронутому вопросу, В. Г. Федоров ссылается на учебник Е. Разина по истории военного искусства, где говорится, что во время похода Ивана Грозного на Казань в 1552 г. правая колонна русской армии на пути от Коломны «до реки Суры (около 700 км)... сделала 24 перехода со средней величиной суточного перехода около 30 км». От реки Суры (где объединились обе колонны) до Свияжска (около 200 км) русская армия дошла в 8 дней с одной дневкой, что «составляло ту же среднюю величину суточного перехода (28—30 км)».35 Однако это исчисление сделано неточно. Нельзя определять среднюю величину перехода, не учитывая дневок, когда войска отдыхали, оставаясь на месте. Известно, что в данном походе русская армия вышла из Коломны 3 июля и пришла к Свияжску 13 августа, т. е. находилась в пути 42 дня. На основании этих данных И. А. Коротков делает более правильный подсчет, по которому русская армия проходила в среднем 20 км в день.36 С этим выводом нельзя не согласиться. В качестве примера большого однодневного перехода приводится иногда указание на то, что в 1245 г. русские войска в один день прошли от Холма до Люблина около 65 км.37 Но случаи подобных форсированных переходов не могут служить основой для определения средней величины перехода русской пехоты при многодневном дальнем маршруте. Не разъясняет вопроса и ссылка на то, что «Татищев называет 25 верст „полднищем“, т. е. половиной дневного перехода».38 Ведь В. Н. Татищев рассказывает о том, что во время возвращения Игоря в свой Новгород, «не доехав (меньше полуднища) верст за 20, споткнулся конь под Игорем и ногу ему повредил».39 Здесь говорится о переходе конного воина, а не пешего. Б. А. Рыбаков напоминает летописные данные о том, что в 1236 г. русские войска от Галича до Холма прошли 235 км в 3 дня, «делая по 78 км в сутки», а в 1248 г. князь Василько преследуя ятвягов, прошел от Владимира Волынского до Дрогычина за 3 дня около 205 км, делая суточный переход в 68 км. Но приведя эти факты, Б. А. Рыбаков тут же поясняет, что «быстрота передвижения часто достигалась тем, что скакали „о дву конь“, попеременно пересаживаясь с уставшего коня на свежего и имея при себе „сумного“ коня, несшего необходимый минимум запасов».40 Иными словами, здесь идет речь о суточном переходе конницы. Нас же интересует величина перехода не конницы, а древнерусской пехоты. Таким образом, эти примеры не помогают выяснению интересующего нас вопроса. Согласно утверждению В. Г. Федорова, «при длительных многодневных переходах современные войска проходят по 20—25 верст в сутки, отдыхая 2 дня в неделю. Малые привалы, по 15 мин., делаются через каждый час, а большой привал — продолжительностью от часу до четырех часов — после того, как войско преодолеет половину дневного пути; при обыкновенных переходах движение походным порядком продолжается около 10 часов, и не менее 14 часов отводится на отдых».41 Тем не менее, в прямом противоречии с только что им же указанными данными, В. Г. Федоров полагает, что будто бы древнерусская рать в походе «как правило», совершала переходы «по 40 верст в день».42 Для обоснования этого неожиданного мнения не приведено ни одной ссылки на летопись, что и неудивительно, так как летопись не подтверждает такого предположения. Итак, все сказанное нами выше по данному вопросу позволяет сделать вывод, что величина суточного перехода древнерусской пехоты в длительном многодневном маршруте в среднем составляет около 25—30 верст с небольшими колебаниями в ту и другую сторону. В частности, войска Игоря по принятому нами маршруту могли проходить в день около 30 верст и несколько более. Объясняется это тем, что, по утверждению специалиста, изучившего развитие русских путей до конца XVII в., «Изюмский шлях представлял из себя очень удобную дорогу для татарских вторжений — не было ни одного, даже незначительного перевоза на всем его протяжении (от самого Изюмского перевоза до соединения шляхов Изюмского с Муравским), ни одной реки».43 Выясняя направление, по которому Игорь совершал свой поход в степь, надо вспомнить высказанное еще П. Бутковым предположение о том, что Игорь через Суджу и Корочу вышел на «древний Изюмский шлях».44 Догадку об Изюмской сакме следует признать правильной, но для выхода на упомянутую сакму не было надобности проходить через Суджу и Корочу, как будет пояснено дальше. Нами было уже подробно обосновано, что обычный для северских князей путь пролегал по водоразделу между Сеймом и Пслом, по Бакаевой дороге, ведущей от Рыльска к верховьям Донца и Сейма. Перейдя здесь Северский Донец, Игорь вышел на Изюмскую сакму, по которой и двинулся вместе со Всеволодом на юг к реке Сальнице. Принято думать, что из Новгород-Северска Игорь вышел на Бакаеву дорогу через Путивль. Но обоснованием для такого мнения не может служить поэтический рефрен: «Комони ржуть за Сулою; звенить слава въ Кыеве; трубы трубять в Новеграде; стоять стязи в Путивлъ». Нам представляется более вероятным, что Игорь из Новгорода направился на Бакаеву дорогу кратчайшим путем через Рыльск; тем более что князья собрались под «стязи» Игоря не в Путивле, а «сняшася у Переяславля»,45 т. е. у Переяславской границы. Все варианты, допускающие движение Игоря через Переяславское княжество, кажутся неправдоподобными не только потому, что это значительно удлиняло бы путь, но и потому, что Игорь, желавший уйти в поход, «утаившеся» от Святослава Всеволодовича, вынужден был не проходить через владения переяславского князя, который, будучи постоянным участником походов Святослава в степь и притом враждебно настроенным к Игорю, быстро известил бы Святослава о выступлении северских князей.46 В 1183 г., поссорившись с Игорем, переяславский князь напал на северские города и пограбил их.47 При создавшихся условиях трудно даже допустить, чтобы Владимир Глебович разрешил Игорю с его войском пройти через территорию Переяславского княжества. Согласно летописи, от Сальницы русские шли всю ночь и на следующий день, в пятницу 10 мая, «в обеднее время», увидели половецкие полки, стоявшие на другой стороне реки «Сюурлия».48 Реку Сюурлий, таким образом, надо искать на расстоянии полуторадневного перехода от Сальницы. В прямом расхождении с Ипатьевской летописью во второй редакции (изданной в 1774 г., часть 3) в «Истории Российской» В. Н. Татищева говорится, что русские встретили половцев на реке Суугли, а о Сюурлии вообще не упоминается. Сопоставляя наименование «Суугли» с русским названием «Угол», «Угла» для реки Орели, Аристов отожествил Орель и ее приток Орельку с рекой Сюурлий. В. Г. Федоров, поддерживая мнение Аристова, утверждает, что конные и пешие войска Игоря «могли» будто бы «пройти за сутки форсированным маршем расстояние от Сальницы до Орели — Суугли, равное 70 верстам».49 Мы считаем невероятным такой громадный переход для пеших воинов древнерусской рати, уже утомленной 17-дневным походом и к тому же вынужденной беречь свои силы к предстоящему бою. Ряд других доводов также говорит против демарша от Сальницы к Орели. В самом деле, если Игорь двинулся в поход с целью напасть на половецкие вежи у Орели, то незачем было бы тогда выбирать такой длинный обходной путь — через Изюмскую сакму, выводившую совсем в другую сторону, к Торским половецким ежам, вдали от Орели. Несравненно проще и скорее можно было дойти до Орели Муравским шляхом, тем самым путем, которым Игорь ходил неоднократно: и в 1174 г. «в поле за Ворскол», и в 1184 г., когда встретил половцев «за Мерлом» (приток Ворсклы).50 Очевидно, в 1185 г. Игорь хотел напасть на половцев торских, а не орельских.
Маршрут похода Игоря 1185 г. (Вариант К. В. Кудряшова). Ссылаясь на А. А. Шахматова, В. Г. Федоров пишет, что в неопубликованной первой редакции «Истории» В. Н. Татищева в соответственном месте текста (и в полном согласии с Ипатьевской летописью) стояло наименование «Сюурлий». В изданной же, второй редакции вместо «Сюурлий» поставлено «Суугли». По мнению В. Г. Федорова, это название «Суугли» заимствовано Татищевым из какой-то, не дошедшей до нас летописи.51 С этим, однако, трудно согласиться. «Су» — слово тюркское (в значении «вода», «река»), а «Угол» — русское название. Значит, словосочетание «Суугли» — не тюркское и не русское, и в такой неестественной форме, по нашему мнению, оно не могло появиться в русской летописи. Надо признать, что такое искусственное словообразование или, по выражению Шахматова, «изобретено» В. Н. Татищевым, или же, что более вероятно, в авторском оригинале второй редакции также стояло «Суурли», превратившееся в «Суугли» вследствие ошибки переписчика или корректора, быть может, из-за неразборчивости рукописного текста. Вновь подтверждая и уточняя наше прежнее положение, высказанное в «Половецкой степи», относительно реки Сюурлий, мы считаем, что русская рать в течение ночи и утра следующего дня могла пройти от Сальницы до Сюурлия около 40—45 верст, едва ли более. Это соответствует расстоянию между Изюмом и местом слияния Голой Долины, Сухого и Казенного Торца. Название «суярлы» (в значении «развилка рек», «разлив воды») вполне применимо к указанному слиянию рек, в особенности к впадению разветвленного устья Голой Долины в Сухой Торец.52 Косвенно такое местоположение реки Сюурлий подтверждается сообщением В. Н. Татищева о том, что от этой реки половцы отступили «за гору». Действительно, в углу, образуемом Сухим и Казенным Торцом, к югу от Сухого Торца расположена гора Карачун.53 По месторасположению реки Каялы имеется ряд гипотез. Еще П. Бутков первый отожествил Каялу с Кальмиусом, что нашло поддержку у Аристова и др. Гипотеза эта сначала показалась правдоподобной и мне, но внимательное изучение источника убедило, что после победы на реке Сюурлий русские двинулись не на юг (к Кальмиусу), а на север (по направлению к Донцу), и, значит, принимать Кальмиус за Каялу было нельзя. Предстояло искать Каялу, руководствуясь указаниями, 1) что она имеет быстрое течение, согласно указанию «Слова», и 2) что тюркское слово «каялы» обозначает «каменистая». В 1943 г. Н. В. Сибилев первый высказал предположение, что Каялой надо считать речку Макатиху, которая имеет быстрое течение и крутые высокие берега. Это предположение казалось весьма вероятным и давало мне основание написать: «Возможно, что Макатиха и есть река Каяла, как полагал местный украинский археолог Н. В. Сибилев, специально обследовавший этот район».54 Гипотеза Н. В. Сибилева подвинула поиски Каялы вперед, но известное сомнение в окончательном решении вопроса все же оставалось. Недавнее гидрологическое обследование интересующего нас района выявило, что речка Макатиха — это небольшой ручей. Долина Макатихи представляет собой «заболоченный намытый чернозем», сток воды имеет «крутое падение», но далеко не совершенен. «Это приводит, с одной стороны, к заболачиванию, с другой — к образованию ступенек с небольшими водопадиками». Приведенная характеристика Макатихи означает, что это — не «каменистая» река и, значит, ее нельзя считать Каялой. Где же притаилась настоящая Каяла? Путь Игоря, отходившего от реки Сюурлий к Северскому Донцу, неизбежно должен был пересечь реку Каменку, протекающую в 4 верстах от Изюмского кургана и впадающую в Северский Донец между Изюмцом и Осколом.55 Окруженные на рассвете в субботу (11 мая) половцами, русские, отбиваясь от врагов, непрерывно продвигались к Северскому Донцу в течение всего дня, наступившей затем ночи и утра 12 мая, пока не потерпели поражения на Каяле. В этих условиях продвижение северских войск происходило хотя и медленнее, чем во время их наступления
к югу, но в указаный срок дойти до места ночлега в степи до реки Каменки они могли. Указанную реку Каменку мы и считаем настоящей Каялой ввиду полного соответствия названия Каменки с наименованием «Каялы» в значении «каменистая». Чтобы установить точно, где именно произошло поражение русских на Каяле, необходимо археологическое обследование изучаемого района на месте. К сказанному можно добавить, что с тем направлением, по которому должен был отступать Игорь, близко совпадает дорога от Славянска на Изюм, показанная на картах конца XVIII и начала XIX в.56 1 К. В. Кудряшов. Половецкая степь. Очерки исторической географии. Географгиз, М., 1948, (в дальнейшем: Кудряшов), стр. 42—90 («Слово о полку Игореве»). 2 В. М. Глухов. К вопросу о пути князя Игоря в Половецкую степь. — ТОДРЛ, т. XI. М. — Л., 1955 (в дальнейшем: Глухов), стр. 38. 3 Глухов, стр. 22. 4 Летопись по Ипатьевскому списку. СПб., 1871 (в дальнейшем: Ипат. лет.), стр. 435. 5 Лаврентьевская летопись. Л., 1926 (в дальнейшем: Лавр лет.), стр. 398. 6 В. Г. Федоров. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла? Изд. «Молодая гвардия», 1956 (в дальнейшем: Федоров), стр. 24. 7 М. Д. Приселков. «Слово о полку Игореве» как исторический источник. — Историк-марксист, 1938, № 6, стр. 128—131. (В дальнейшем: Приселков); История Болгарии, т. I, 1905, стр. 121—122. 8 С. М. Соловьев. История России, т. I. Изд. «Общественная польза» (в дальнейшем: Соловьев), стр. 690; Б. Д. Греков. Киевская Русь. М., 1949 (в дальнейшем: Греков), стр. 328—329. 9 Глухов, стр. 36. 10 Ипат. лет., стр. 368. 11 Глухов, стр. 24. 12 Греков, стр. 333, 328, 322. 13 Н. М. Карамзин. История государства Российского, т. II, прим. 205; Ипат. лет., стр. 192; Повесть временных лет, ч. I. М., 1950, стр. 361. 14 Соловьев, стр. 687. 15 Глухов, стр. 25. 16 Ипат. лет., стр. 192. 17 История культуры древней Руси, т. I. М., 1948, стр. 405. 18 История военного искусства. Сборник материалов, в. 1. М., 1951, стр. 184. 19 Ипат. лет., стр. 432—433. 20 Б. Д. Греков. Политический строй феодальной Руси XI—XII века. — В кн.: Очерки истории СССР IX—XIII вв., I. Изд. АН СССР, М., 1953, стр. 161. 21 Слово о полку Игореве. Л., изд. «Советский писатель», 1953 (Библиотека поэта, Малая серия, изд. 3), стр. 13. 22 Глухов, стр. 28. 23 В. Н. Татищев. История Российская, кн. 2. М., 1773, стр. 457, прим. 352. 24 Н. Барсов. Очерки русской исторической географии. Варшава, 1885, стр. 149, 303; Кудряшов, стр. 116, 117; Б. А. Рыбаков. Русские земли по карте Идриси 1154 г. — КСИИМК, т. 43, стр. 20; Федоров, стр. 47—48; Лавр. лет., стр. 250. 25 Глухов, стр. 27—30. 26 Н. С. Арцыбашев. Игорь или война половецкая. — Вестник Европы, 1826, № 11, стр. 193, прим. 32. 27 Книга Большому Чертежу. Под ред. К. Н. Сербиной. Изд. АН СССР, 1950, стр. 7, прим. 1. 28 «Слово о полку Игореве». Изд. АН СССР, 1950, стр. 41. 29 Ипат. лет., стр. 432. 30 Глухов, стр. 37. 31 Ипат. лет., стр. 183; Кудряшов, стр. 92, 94. 32 Н. Аристов. О земле половецкой. Киев, 1877, стр. 7—9; Н. Барсов. Очерки..., стр. 302—304; А. В. Лонгинов. Историческое исследование сказания о походе северского князя Игоря Святославича на половцев в 1185 году, Одесса, 1892, стр. 212. 33 Ипат. лет., стр. 369. 34 Ипат. лет., стр. 440. 35 Федоров, стр. 38. 36 И. А. Коротков. Иван Грозный. Военная деятельность. М., 1952, стр. 31; ПСРЛ, т. XIII, 1-я половина, стр. 192, 199—201. 37 Б. А. Рыбаков. Рецензия на «Половецкую степь» К. В. Кудряшова. — Советская книга, 1949, № 11 (в дальнейшем: Рыбаков), стр. 34; Ипат. лет., стр. 529. 38 Рыбаков, стр. 34. 39 В. Н. Татищев. История Российская, кн. 3. М., 1774, стр. 271. 40 Рыбаков, стр. 35. 41 Федоров, стр. 35. 42 Федоров, стр. 41. 43 Краткий исторический очерк развития водных и сухопутных сообщений и торговых портов в России. СПб., 1900, стр. 65. 44 П. Бутков. Нечто к слову о полку Игоря. — Вестник Европы, 1821, ноябрь, стр. 51. 45 Лавр. лет., стр. 397. 46 Приселков, стр. 115, со ссылкой на летописец Владимира Глебовича князя Переяславского. 47 Ипат. лет., стр. 424—425. 48 Ипат. лет., стр. 431. 49 Федоров, стр. 69. 50 Ипат. лет., стр. 387 и 427. 51 Федоров, стр. 146, 147. 52 Кудряшов, стр. 68, 69. 53 Сведения о горе Карачун, а также (см. ниже) о реке Макатихе сообщены мне С. В. Грум-Гржимайло, которому выражаю здесь искреннюю признательность. 54 Обследовав на месте район между Изюмом и Славянском, Н. В. Сибилев собрал ценный материал и сделал интересные выводы. См. ссылки на Н. В. Сибилева в моей книге «Половецкая степь». 55 С названием Каменки вполне согласуется то, что в обе стороны от нее тянется по правому берегу Северского Донца широкая полоса с выходами пород юрской и меловой системы (известняки, мел, песчаники). В Книге Большому Чертежу эта река носит название Ерек Каменной. Имелись в этом районе и озера (см.: Подробная карта Российской империи, составленная при Александре I под руководством П. К. Сухтелена и К. И. Оппермана, часть XIV; специальная карта Европейской России (десятиверстка), л. 61; Книга, глаголемая Большой Чертеж, изд. Спасским. М., 1846, стр. 38; сб. «Россия», под ред. П. П. Семенова-Тяншанского, т. VII, стр. 16 (геологическая карта)). 56 За недостатком места в настоящей статье мы не могли подвергнуть более подробной критике ряд других гипотез В. М. Глухова и затронули только наиболее важные вопросы. |
|---|
|
Литература вопроса о смысле выражения автора «Слова о полку Игореве» «растекашется мыслию по древу» очень обширна. Сторонников трактовки этого места «Слова о полку Игореве», по аналогии с другим выражением «по мыслену древу» считающих, что речь идет именно о человеческой мысли, столько же, сколько и их противников, полагающих, что вместо «мыслию» следует читать «мысию», т. е. каким-то зверьком, быстро взбегающим по стволу дерева или спускающимся с него, ибо такое чтение больше соответствует последующему тексту, в котором говорится о сером волке и сизом орле. Если среди первых можно назвать Ф. Е. Корша, А. Майкова, А. А. Потебню, А. Н. Веселовского, И. Н. Жданова, В. Ф. Ржигу, Д. В. Айналова, Д. С. Лихачева, Н. В. Шарлеманя и др., то среди вторых мы встречаем О. Миллера, В. Миллера, Е. В. Барсова, А. И. Соболевского, В. Н. Перетца и др. Несмотря на то, что в комментариях к последнему изданию «Слова о полку Игореве» чтение «мысью» вместо «мыслью» отвергнуто, тем не менее вряд ли можно посчитать сброшенной со счетов в научном споре и точку зрения противников подобного рода трактовки одного из загадочных мест замечательного памятника древнерусской литературы.1 Нельзя не обратить внимания на некоторые материалы, заставляющие нас еще раз вернуться к решенным казалось бы вопросам. Слово «мысь» в обозначении белки встречалось в речи населения Опочецкого уезда Псковской губ. (ныне Опочецкий район Великолукской области).2 Между тем псковское происхождение автора, писца или редактора «Слова» вызывает сомнение.3 Но, видимо, во времена Киевской Руси слово «мысь» в значении белки имело более широкое распространение. Этот пушной зверек, в лесах Восточной Европы встречающийся повсеместно, был одним из наиболее распространенных объектов охотничьего промысла и тогда, когда создавалось «Слово о полку Игореве», и гораздо позднее, да и теперь, в наши времена. Вполне естественно поэтому, что в разных местах он мог называться по-разному и, больше того, население одних и тех же мест могло пользоваться синонимами, обозначающими белку. Примеры подобного рода хорошо известны. Например, «конь» и «лошадь» (хотя, конечно, в данном случае имеют место известные смысловые нюансы), «бель», «веверица», «векша» и т. п. Характерно, что в «Повести временных лет» слова «бель» и «веверица» встречаются рядом, хотя и то и другое обозначает белку.4 Свидетельством огромного промыслового значения этого пушного зверька, шкурками которого платили дань во времена Киевской Руси, выступают некоторые слова профессиональной речи охотников-промышленников Сибири. В языке охотников и сибирской тайги и европейского Севера широко распространен термин «белкованье», «белковать». Он иногда встречается наряду с термином «соболеванье», «соболевать» и тогда выступает в качестве обозначения охоты собственно на белку. Чаще же всего охотник-сибиряк, отправляясь по осени в тайгу промышлять пушного зверя вообще, а по пути и сохатого, и медведя, говорил, что он уходит «белковать», «на белкованье». В таком случае термин «белковать», «белкованье» обозначал охоту вообще и, по преимуществу, именно за пушным зверем, хотя объектом охоты были отнюдь не одни белки, но и куницы, и соболи, и горностаи, и прочий зверь, дававший ценный мех, ту самую «мягкую рухлядь», за которой устремлялись деды и прадеды сибиряков-промышленников казаки-«землепроходцы» XVII в. Такого рода терминология была в ходу в Сибири и в середине XIX в., и в конце века, и в начале следующего, XX столетия.5 Интересно отметить, что выпущенная Тульским оружейным заводом последняя модель двухствольного ружья, типа бокбюксфлинта (один ствол, гладкий, 28 или 32 калибра, другой, нарезной, калибра 5,6 мм), специально предназначенного для охотников-промышленников Сибири, носит название «МЦ-БЕЛКА», хотя, конечно, предназначена отнюдь не для стрельбы только по одним белкам. Кстати, следует напомнить давно уже обратившие на себя внимание исследователей легкость и стремительность белки, которая, взлетая или спускаясь с дерева, действительно как бы течет, растекается по нему. В пользу трактовки «мысь» — «белка» можно привести также следующие соображения. «Мысь» стоит рядом с орлом и волком, т. е. все три образа взяты из животного мира. Такой логике образов соответствует и пространственная логика: орел парит в поднебесье, мысь несется (растекается) по дереву, волк скачет по земле. Что касается попытки усмотреть в «мыси» соню, то вряд ли таковую можно посчитать состоятельной.6 Все сони (соня-полчок, лесная соня, садовая соня) ведут ночной образ жизни, спят 8—9 месяцев в году, и вряд ли южной темной летней ночью можно было проследить даже зоркому глазу, как соня носится, «растекается по дереву». Объектом охотничьего промысла на Руси сони никогда не были. Нельзя не обратить внимание также и на то обстоятельство, что автор «Слова о полку Игореве» вводит в действие образы только широко распространенных и хорошо известных русским людям зверей и птиц (волк, орел, гоголь, лисица и др.). В этой связи трудно себе представить появление в «Слове» рядом с хорошо известными волком и орлом сони-полчка, лесной или садовой сони, основной областью распространения которых и теперь, и в те времена были края, далекие от тех, где писалось «Слово о полку Игореве». Малочисленные, ведущие ночной образ жизни сони вряд ли могли быть упомянуты автором «Слова» в одном ряду с орлом и волком. На глаза человеку сони попадаются не часто, и нередко об их присутствии тихой ночью в саду говорит лишь стук падающих на землю фруктов.7 Примечание 1 «Слово о полку Игореве». Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М. — Л., 1950, стр. 35, 377—378. Об этом говорит постановка данного вопроса в статьях Н. М. Егорова «Мышью или мыслью» (ТОДРЛ, XI. М. — Л., 1955) и Готфрида Кирхнера «Мыслию, und trotzdem мышию» (Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich Sshiller Uniwersitet. Jena. Gesellschafts und Sprachwissenschaftliche Reine, Heft 4/5, 1955—1956, стр. 621—622). 2 В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. II. М., 1955, стр. 365; В. Ф. Ржига. «Мысленное древо» в «Слове о полку Игореве». — Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934, стр. 103. 3 Д. С. Лихачев. Комментарий исторический и географический. — Сб. «Слово о полку Игореве». Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М. — Л., 1950, стр. 377. 4 Повесть временных лет, т. I. М. — Л., 1950, стр. 18. Некоторые исследователи текста «Слова о полку Игореве» считают возможным, что в данном случае речь идет о «белой веверице», т. е. о выкуневшей белке, о зимнем, голубоватом беличьем мехе. Но цвет зимнего беличьего меха не белый, а сизый. Этот термин для обозначения определенного цвета был знаком автору «Слова». 5 А. А. Черкасов. Записки охотника Восточной Сибири. Иркутск, 1950; Н. И. Яблонский. По тайге, тт. I и II. М., 1904; В. К. Арсеньев. 1) В дебрях Уссурийского края. М., 1947; 2) Сквозь тайгу. М., 1947. Не является ли украинское (как, впрочем, и чешское myslivec — «охотник», польское mysliwiec — «охотник») «мисливство» — «охота», «охотничий промысел», «мисливець» — «охотник», «мисливьский» — «охотничий» и т. п. языковым явлением, аналогичным «белкованию»? Только в языке украинского охотника память о той далекой поре, когда охота на пушного зверя была охотой в первую очередь на «мысь», т. е. на белку (уже хотя бы потому, что дань платили в первую очередь беличьим мехом), отразилась в виде одного названия древнерусской «веверицы» — «мысь», а в языке сибирского охотника в виде другого — «белка». 6 Н. М. Егоров. Мышью или мыслью, стр. 13. 7 Брэм. Жизнь животных, т. I, СПб., 1904, стр. 445—447; Е. Спангенберг. Из жизни натуралиста. М., 1955, стр. 156—157; Атлас охотничьих и промысловых птиц и зверей СССР, т. II, М., 1953, стр. 87—88. |
|---|